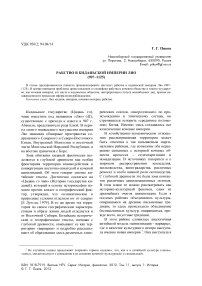Рабство в киданьской империи Ляо (907-1125)
Автор: Пиков Геннадий Геннадьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка проанализировать институт рабства в киданьской империи Ляо (907-1125). В центре внимания проблемы происхождения и специфики рабства в кочевом обществе и таком государстве, как кочевая империя, его месте в киданьском обществе, интерпретации статуса несвободных лиц, причин незавершенности процессов оформления рабовладения.
Ляо, кидани, империя, кочевая империя, рабство
Короткий адрес: https://sciup.org/14737649
IDR: 14737649 | УДК: 930.2;
Текст научной статьи Рабство в киданьской империи Ляо (907-1125)
Киданьское государство (Цидань го), чаще известное под названием «Ляо» ( 遼 ), существовало с прихода к власти в 907 г. Абаоцзи, представителя рода Елюй. В период своего наивысшего могущества империя Ляо занимала обширные пространства современного Северного и Северо-Восточного Китая, Внутренней Монголии и восточной части Монгольской Народной Республики, а на востоке граничила с Коре.
Зона обитания киданей фактически выделяется в глубокой древности как особая фронтирная территория взаимодействия и конвергенции восточно-азиатской и кочевой цивилизаций. Об этом говорят многие китайские тексты. Достаточно сослаться на «Цидань го чжи» (Историю государства ки-даней), который в основу историософии помимо прочих кладет и географический фактор, утверждая, что «климатические и природные условия отделили юг от севера» [Е Лун-ли, 1979]. В то же время эта территория по своим географическим характеристикам и образу жизни людей отделяется и от Восточной Сибири. Китайские исторические и географические тексты, начиная с глубокой древности, описывают ее как территорию «варваров» и подробно рассказывают об образовании здесь различных химе- рических союзов, «инородческих» по происхождению и этническому составу, но стремящихся оспорить «срединное положение» Китая. Именно здесь создавались все классические кочевые империи.
В хозяйственно-экономическом отношении рассматриваемая территория может быть отнесена к так называемым маргинальным районам, где возможны оба неразрывно связанных с историей кочевых обществ процесса – седентаризации и номадизации. В источниках говорится и о широком распространении земледелия, шелководства, виноградарства, различных ремесел и особо важной роли скотоводства. С глубокой древности это была зона контактов различных цивилизационных потоков. В этом плане ее можно рассматривать как историко-культурный феномен, один из древнейших очагов цивилизации. Если в оседлых районах объединялись культуры, опиравшиеся на древние письменные традиции, то здесь происходило объединение бесписьменных культур, опиравшихся, прежде всего, на устные традиции.
В этом районе сложилась аналогичная китайской модель «цивилизация – варвары», где в качестве культурного центра выступала именно новая империя 1. Она выступала в качестве «коренного государства» («бень-го») для своих соседей и заняла особое место в восточно-азиатском метарегионе [Пиков, 2005]. Постепенно кидани начали строить свой «мир» как «тянься» («поднебесный»), занимающий срединное, т. е. универсальное, связующее положение в общей трехчастной схеме миропорядка – «сань цай» (Небо, Человек, Земля), и пытались играть роль «чжунго» («срединного государства») вместо Китая для остальных кочевых народов как четырехчастной периферии («сы и») и даже в идеале всей ойкумены.
Для киданьского «мира» характерны замкнутость в политических границах, географическая и климатическая локальность, киданецентризм, т. е. этноцентризм, традиционализм, стабильность и длительность существования, «древность» зарождения, самобытность и оригинальность, уникальность исторического развития, цивилизационно-культурный экспансионизм, привлекательность «имиджа» для других народов, не только «соседних», но и отдаленных, умение «уживаться» с ними, наличие «истинного просвещения», которое способствовало развитию всех форм общественной жизни и в то же время являлось для народа «сдерживающей силой» от преступлений, исключительное значение литературы и письменности, предельная централизация государства и особая сила «верховной власти». Все эти факторы говорят о существовании совершенно новой культурно-идеологической ситуации. Идея «бень-го» становится маркером также новой геополитической реалии и специфической социально-политической ситуации.
Империя Ляо была неоднородной не только в этническом, но и в социальноэкономическом отношении, ибо входившие в ее состав многочисленные племена стояли на различных ступенях общественного развития.
В письменных источниках (прежде всего «Ляо ши» / Истории династии Ляо) содержатся немногочисленные, но вполне достаточные для анализа упоминания и о рабах. Однако анализ этот осложняется из-за недостаточной разработанности целого рада теоретических проблем, связанных со спецификой рабовладения у кочевников. Что представляет из себя рабовладение у кочевников? «Любую потерю личной свободы» [Воробьев, 1975. С. 61] или «одну из форм эксплуатации и форм социальных отношений», причем «наиболее грубую форму эксплуатации»? [Козлов, 1968. С. 813–814].
Еще в начале XX в. Г. Нибур высказал мнение о том, что «у пастушеских племен средства существования составляют собственность отдельных лиц, и не имеющим охота не остается ничего больше, как прибегнуть за поддержкой к собственникам. Поэтому, если есть нужда в рабочих, всегда найдутся свободные люди, которые охотно предложат свои услуги, и нет большого проку в рабском труде» [Нибур, 1907. С. 247; Ковалевский, 1914. С. 83, 84]. Это мнение в 1950–1960-е гг. было поддержано целым рядом советских ученых (А. А. Росляков, С. С. Черников, Л. П. Лашук, Г. Е. Марков, Г. И. Семенюк, А. М. Хазанов) [Материалы…, 1955; История Казахской ССР, 1957. С. 45; Лашук, 1967. С. 108; Марков, 1967. С. 7]. Хотя пользуется определенной поддержкой и противоположная точка зрения, постулированная еще в 1930-е гг. С. П. Толстовым [1948. С. 283].
Поэтому вопрос о характере рабства у киданей является неотъемлемой частью более общей проблемы – о специфике рабовладельческих отношений в кочевых обществах. Не ставя перед собой задачу решения этой грандиозной проблемы, заметим только, что более обоснованной представляется позиция исследователей, считающих, что «рабство, почти имманентно присущее кочевникам, никогда не было и не могло стать у них основой производства» [Хазанов, 1975. С. 148; 1976. С. 267]. Это видно на примере монголов, у которых один человек вполне справлялся с табуном в 150 лошадей [Tomio, 1968. P. 95–96]. Увеличение производства в кочевом обществе больше зависит от естественных условий, чем от увеличения объема вложенного труда. К тому же «использовать рабов при скотоводческих работах, требовавших определенной квалификации и добросовестности, было невыгодно, ибо охранять рабов сложнее, чем пасти скот и ухаживать за ним» [Марков, 1976. С. 303]. Недаром в источниках очень редко упоминаются рабы-пастухи. К тому же возможности для бегства рабов в кочевом обществе были большими, чем в обществе земледельческом. Поэтому рабский труд применялся в скотоводческом хозяйстве лишь в определенных сферах (рытье колодцев, водопой скота, обработка продуктов животноводст- ва, использование их в качестве домашних слуг, служанок, наложниц). Таким образом, восполнялась и нехватка женщин [Кляш-торный, 1985. С. 164]. Часто их отпускали на волю, и они пополняли зависимую категорию населения. Иногда из них формировали военные дружины [Бичурин, 1950. С. 184]. Подавляющее же большинство продавали на внешние рынки.
Все сказанное хорошо иллюстрируется и на примере киданьских рабов. Основным источником порабощения были военнопленные. Так, в 919 г. киданьские войска, разгромив племя У-гу, захватили в плен 14 тыс. чел. В 921 г. при захвате ущелья Гу-бэй население десяти близлежащих городков было уведено в рабство в глубинные районы империи. В 986 г. в плен захвачено было более 100 тыс. чжурчжэней. В том же году 240 сдавшихся сунцев «были пожалованы в качестве подарков сопровождающим чиновникам» [Wittfogel, Feng Chia-sheng, 1949. P. 231, 576, 583].
Полон у киданей был обильным, но это не говорит о том, что рабовладельческие отношения достигли у них большого развития. Мы знаем, что и другие кочевые народы древности и средневековья захватывали во время военных походов много пленных, но использование рабского труда у них значительно отличалось от его использования у земледельческих народов, находившихся на стадии рабовладения. Так, вели обширную работорговлю эфталиты [История таджикского народа, 1963. С. 408], хунну всех «взятых в плен делали рабами и рабынями» [Таскин, 1968. С. 41]. В 619 г. тюркский хан Чуло-хан в Бин-чжеу «забрал в городе всех женщин и девиц и ушел» [Бичурин, 1950. С. 246]. Печенеги, по свидетельству ал-Бекри, предоставляли пленным «на выбор, желают ли они остатъся у них на условиях полной равноправности и /даже/ поступления в брак у них, если того пожелают, или быть отправлены обратно в безопасное для них место» [Куник, Розен, 1878. С. 60]. Рабы и рабыни неоднократно упоминаются в огузском эпосе [Книга моего деда Коркута, 1962. С. 41, 45–47, 49, 89]. В надгробной надписи на могиле Елюй Чуцая сказано: «В то время рабы, полученные князьями, сановниками и военачальниками, часто оставлялись в областях и проживали почти на половине Поднебесной» [Мункуев, 1965.
С. 78]. Так же поступали и чжурчжэни [Воробьев, 1975. С. 60].
Рабами в данном случае становились либо отдельные воины разгромленной армии, либо жители завоеванных территорий, продолжавшие жить семьями на прежнем месте, но выполнявшие обязанности рабов. Семьи, захваченные во время военных экспедиций, использовались при основании крепостей и городков в стратегически важных местах. Еще основателю империи Ляо Абаоцзи советовали устраивать отдельные поселения для китайских пленников, запрещали их передавать или продавать китайцам [Wittfogel, Feng Chia-Sheng, 1949. P. 235, 335. n.11].
Вторым источником пополнения рабов было рабство за долги. В 1013 г. был издан декрет о том, что «в случаях, когда мужчины или женщины отдавались в залог людям из-за наводнения и голода по всей стране, начиная с первого месяца следующего года, каждый день /рабства/ должен оцениваться как равный /в эквивалентном отношении/ плате в десять монет. Когда возмещалась полная стоимость, рабство заканчивалось и они отсылались обратно в свои семьи». Пресечь окончательно практику отдачи в рабство за долги правительство не могло, хотя и пыталось. В 1088 г. «в связи с голодом в Шанцзине и Наньцзине свободным людям было разрешено продавать себя». Члены правительства, высшие сановники, родственники императора сами владели большим количеством рабов и неоднократно получали их в дар. Уже упоминалось, что в 986 г. чиновникам были розданы 240 пленных. В 1036 г. главному контролеру киданьского кочевого лагеря Елюй Дэ было подарено 15 семей кочевников [Wittfogel, Feng Chia-Sheng, 1949. P. 233, 236, 386]. Пожалования были разного размера – и 15 семей, и 10 [Думан, 1955. С. 27], и 30. Последних получил китайский чиновник, служивший у киданей, Ван Цзичжун, так как он «не имел рабов» [Wittfogel, Feng Chia-Sheng, 1949. P. 231, 236].
Родственники императора владели несравненно большим количеством рабов. Так, дядя киданьского императора Синцзуна (興宗,1031-1055) Сяо Xyэй имел более тысячи рабов [Думан, 1955. С. 27], а дочь Цзин-цзуна (景宗,969-982) получила «в по- дарок» 10 тыс. рабов из числа, вероятно, китайских военнопленных. Они построили ей целый город. В 930 г. третий сын Абаоц-зи был одарен «бохайскими хозяйствами, захваченными ранее» [Wittfogel, Feng Chia-sheng, 1949. P. 226].
Третьим источником порабощения была отдача в рабство преступников и их семей. Еще до образования империи, как сообщает «Ляо ши», каган из рода Яолянь Хэньдэц-зинь «из-за того, что три года /Бугуцзи и два других/ убили юй-юэ Шилу, захватил их семьи и ввел их в состав ва-ли. Жена Абаоц-зи «простила их», но сделала «знатными слугами лагеря». Так назывались аристократические заключенные. Они следили за императорскими шатрами, повозками, фонарями. Император Шицзун ( 世宗) «всех их освободил. С этого времени члены /императорского/ клана, родственники императрицы, и наследственные чиновники, которые совершали преступления, арестовывались и помещались /в лагерь/». Таким образом, отправка в лагерь была одним из наказаний высших сановников государства за значительные преступления. За менее тяжкие проступки их могли выслать на территорию пограничных племен или сослать за границу, понизить в ранге, отправить в далекие страны с трудным заданием. Если задание это выполнялось, преступника по возвращении прощали и даже награждали [Ibid.]. Но в лагерях находились и менее привилегированные преступники, которые работали в амбарах, птичниках, изготавливали лекарства, различные напитки, служили камердинерами, портными, слугами родственников императора, актерами и т. д. Уже одно это перечисление их обязанностей наглядно демонстрирует ограниченность использования рабского труда.
Если преступники совершали убийство или грабеж, то их казнили, а в рабство попадали их семьи, которые отправляли в лагерь. Иногда рабов представляли в качестве подарков иностранные правители. Так, в 991 г. чжурчжэни подарили киданьскому императору своих охотников, подманивавших оленей в сезонных охотах.
О том, что рабский труд не играл большой роли в киданьском обществе, наглядно свидетельствует и практика использования рабов. Судя по «Ляо ши», их отправляли в основном в ордо-лагеря, использовали при обслуживании гробниц императоров, дворцов или каких-либо административных учреждений. Могли они быть направлены и к частным лицам, как уже упоминалось. Зачастую рабов продавали за границу или внутри империи. Запрет 1046 г. продавать рабов китайцам очень примечателен. Он свидетельствует о достаточно широкой практике такой продажи. В данном случае речь идет явно о рабах – бывших военнопленных, и правительство, таким образом, вероятно, стремилось не допустить их возвращения в ряды китайской армии.
Иной характер носило использование рабского труда в районах, населенных китайскими или бохайскими подданными империи. Запрет 1046 г. к этим районам не относился. В «Ляо ши» есть целый ряд упоминаний, что рабами здесь, как правило, становились представители социальных низов и использовались они в домашнем хозяйстве. Богатые китайцы или бохайцы нанимали их в качестве замены себе для отбывания трудовой или пограничной повинности.
Общую численность рабов в Ляо подсчитать, разумеется, трудно. В «Ляо ши» много раз упоминаются цифры, касающиеся рабов, причем по разным поводам. Здесь и приводившиеся выше цифровые данные о пожалованиях рабов чиновникам, членам императорского рода. Есть упоминания о дарении рабов храмам. Члены императорского рода дарили по 50, 100 семей [Wittfo-gel, Feng Chia-sheng, 1949. P. 295]. Однако эти цифры нуждаются в существенной оговорке. Не всегда в данном случае речь идет именно о рабах. Шестьсот человек, которых киданьский император подарил одному из храмов, сначала платили налоги и рабами на считались, но впоследствии они таковыми стали. Этот храм вообще пользовался дурной славой из-за порабощения свободных людей [Ibid. P. 306]. Мы знаем также, что отдельные члены правящих кланов владели огромным количеством рабов, как, например, «рядовой» член клана Сяо, который «довольствовался» тысячью рабов. Обменивались подарками члены императорского рода и между собой. Жена Цзинцзуна (景宗) подарила 10 тыс. рабов одной из своих дочерей [Ibid. P. 230, 289]. Эти рабы были срочно отправлены на строительство оборонительных сооружений против сун-ской армии. Наконец, иногда мы знаем численность хозяйств и семей рабов, использовавшихся при строительстве городов и крепостей: 10 тыс., 4 тыс., 1 тыс., 500 чел., 300 чел. Часто эти рабы именуются личными рабами тех или иных киданьских сановников [Wittfogel, Feng Chia-sheng, 1949. P. 65–67, 71, 74, 77].
Привести в определенную систему все эти цифры затруднительно уже хотя бы потому, что они, как правило, эпизодичны и не отражают, на наш взгляд, упорядоченную практику распределения рабов, какие-либо устоявшиеся нормы владения рабами. Они хоpoшo отражают закономерность использования рабов, как правило, на самих тяжких, трудоемких и неквалифицированных работах, но выводить лишь на их основе общую численность киданьских рабов не представляется возможным. Можно только предположить, что общее их число было немалым, однако эта категория населения не является стабильной. Бывшие рабы освобождались или продавались за пределы государства, в то же время на положение рабов переводились ранее свободные или вновь захваченные пленники. Численная непостоянность рабской прослойки, известная ее текучесть также свидетельствуют в пользу положения о незначительной роли рабов в хозяйственной жизни киданьской империи.
Так же можно интерпретировать и сведения «Ляо ши» об обращении с рабами. Если рабы были военнопленными, то со временем они добивались улучшения своего положения, а ведь это была самая бесправная часть рабов. Кстати, по «Ляо ши» очень хорошо прослеживается наличие различных категорий рабов и соответственно различных форм и методов их эксплуатации.
Военнопленные практически были совершенно лишены свободы. Они не обладали правом на свою личность, на имущество и семью. В их отношении хозяин пользовался практически неограниченной властью. Он мог подвергнуть раба пытке, посадить в тюрьму. Правда, убить его он не имел права. Это была привилегия государства. Правительство довольно жестоко наказывало в таком случае владельца раба. Елюй Няолюй, муж дочери императора, за убийство своего раба был приговорен к смерти, его спасло лишь то, что он написал очень хороший портрет Шэнцзуна (Ж^). В результате он был лишь сослан за границу [Wittfogel, Feng Chia-sheng, 1949. P. 197]. В 1017 г. дочь императора за убийство рабыни-служанки была понижена в ранге, а муж ее за то, что «не мог руководить своей семьей» снят с должности помощника управляющего делами Политического и Дворцового Советов. Не посчитались при этом с его военными заслугами. Даже если раб совершал преступление и заслуживал смерть, подвергнуть его этому наказанию могли только власти. Раб не мог свидетельствовать против своего хозяина, за исключением случаев, когда его хозяин замышлял измену [Ibid. P. 232, 586].
Надо отметить, что сразу после пленения захваченных в зависимости от их профессиональной пригодности назначали на ту или иную работу. Таким образом, уже в самом начале военнопленный, обладавший ценными профессиональными навыками, мог избежать тяжелой участи и получать определенные преимущества по сравнению с другими пленными. Так поступали, например, с опытными ремесленниками, которым разрешалось иметь семьи и даже владеть каким-либо имуществом. Они уже в самом начале не считались полными рабами и со временем, как это было и у других монгольских племен, переходили в категорию простонародья, становились зависимыми [Козин, 1941, § 213, 218, 221–223].
Эти выделенные из общего числа пленники (бу-цюй), вероятно, составляли значительную его часть. Они, как правило, упоминаются как «семья». Их старались селить вместе, соединять с ранее захваченными родственниками, как о том свидетельствует указ 989 г. Они платили особые налоги и выполняли особые повинности [Wittfogel, Feng Chia-sheng, 1949. P. 231, 341], им разрешалось учреждать свои собственные «знамена и барабаны». Если их дарили, то не поодиночке, а целыми семьями.
Положение других групп рабов – бывших преступников, простых и знатных, должников, – естественно, тоже отличалось от положения общей массы военнопленных. Рабы знатного происхождения освобождались от многих повинностей и обязанно- стей – пограничной гарнизонной службы, службы в качестве свиты, трудовой повинности и т. д. Специфическим было и отношение к «людям, которых заставили стать слугами», – они были внесены в особые списки [Ibid. P. 288, 372].
На особом положении находились так называемые «переведенные семьи» (чжу-ань). Они часто прикреплялись к ордо и были, таким образом, частью постоянной армии страны, могли продолжать заниматься своими каждодневными занятиями. Со временем часть их могла добиться полного освобождения. Это случалось в том случае, если они участвовали совместно с кидань-скими воинами и военных кампаниях. В 1116 г. члены этих семей «стремились успокоить» чжурчжэней и бохайцев, «прилагая все силы для выполнения получаемых приказов», и не боялись сражаться [Е Лун-ли, 1979. С. 186]. «Как только был отдан приказ о наборе в армию, сразу же было собрано более тридцати тысяч воинов» и «они активно выполняли приказы, не страшась даже смерти» [Там же. С. 274].
Хорошо обращались и с «драгоценными» ремесленниками, только так можно было добиться, чтобы они выполняли свою работу качественно [Wittfogel, Feng Chia-sheng, 1949. P. 370].
Особо надо сказать о категории личных рабов. Эти рабы платили налоги правительству и своим хозяевам и часто именовались потому «платящими двойной налог». Их нередко использовали при основании стратегически важных крепостей. Во время военных действий частных рабов иногда превращали в солдат, как это случилось, например, в 1115 г. в период войны с чжур-чжэнями. С одной стороны, они могли подвергнуться любому оскорблению, но, с другой – отдельные факты говорят, что порой они обладали очень значительными правами. Елюй Амоли в 995 г. с помощью захваченных им лично военнопленных возвел укрепленный город в междуречье Шира-мурэнь и Цаган-мурэнь и просил, чтобы его личный домашний раб управлял этой «пастушеской землей» [Ibid. P. 231, 369]. Эта просьба вызвала возмущение среди кидань-ской знати, и в «Ляо ши» он характеризуется как «жадный», что свидетельствует об уникальности данного случая. На такой шаг мог отважиться лишь незаурядный человек. Если среди киданьских рабов и встречались образованные и умные рабы, тем не менее они не всегда могли добиться высокого положения. Исключение, быть может, составляют такие люди, как Хань Янь-хуэй, «приобретенный» киданями в 916 г. и научивший своих новых хозяев «организации официальных учреждений, постройке городов, обнесенных внутренними и внешними стенами, и созданию торговых местечек для поселения китайцев» [Е Лун-ли, 1979. С. 43]. Все же кидани пытались эксплуатировать талант своих рабов. Указом 1048 г. предусматривалось, что рабы могут давать советы правительству, но только через своих хозяев [Wittfogel, Feng Chia-sheng, 1949. P. 235].
Особое положение занимали рабыни, ставшие наложницами. И дело здесь не только в специфическом с ними обращении. Декретами 1027 и 1029 гг. сын наложницы считался свободным человеком, хотя и лишался многих прав и привилегий, которыми он обладал бы, будучи законным сыном своего отца [Ibid. P. 233]. Это неопределенное социальное положение вынуждало сыновей наложниц добиваться изменения своего статуса. Формально считаясь полурабами, они в действительности, в зависимости от положения отца, добивались подчас даже значительных постов в административном аппарате. «Ляо ши» сообщает о постоянных и многочисленных судебных процессах, затеваемых этими молодыми людьми, стремившимися даже получить по наследству должность своего отца. В отдельных случаях, правда, с трудом, эти ходатайства удовлетворялись. В целом же закон всячески препятствовал изменению социального статуса рабов. Декретом 1050 г. им не разрешалось сдавать экзамен на степень цзиньши [Ibid. P. 233, 493]. Социальным ограничениям подвергались также члены семей порабощенных преступников и военнопленных. Им не разрешалось владеть каким-либо имуществом. В отдельных случаях они могли быть зарегистрированы в качестве солдат или даже подняться до определенного чиновничьего ранга [Ibid. P. 234].
Таким образом, анализ письменных источников позволяет сделать вывод о том, что рабство в киданьской империи не имело сколько-нибудь решающего значения в производстве, как и на всем Востоке [Всемирная история…, 2001. С. 283]. Оно было главным образом домашним, патриархальным, так как использование рабов на скотоводческих работах, требовавших определенной квалификации, было невыгодно. Сказалось и давно отмеченное исследователями [Мейер, 1923. С. 10] преобладание обычного права над писаным. При этом явно доминировали внешние источники рабской силы. Все три классических признака раба (наличие хозяина, более низкое общественное положение, принудительный труд) [Нибур, 1907. С. 14] у киданьского несвободного человека не имели необходимой категориальной четкости. Рабов использовали в небольшом количества в качестве домашних слуг, обслуживавшего персонала резиденций феодалов. Захватывали рабов главным образом для продажи. Сам термин «раб» в том смысле, в каком он понимался киданями, как и другими кочевниками, явно не соответствовал аналогичному толкованию этого понятия в античном мире [Гумилев, 1967. С. 54]. Рабство у киданей, как и у других кочевников [Крадин, 1992. С. 100– 111; 2001. С. 167], не перешло в способ производства, ибо слишком слабо были развиты производительные силы, развитие которых тормозилось к тому же экспансионистскими устремлениями киданьской империи. Частые волнения покоренных племен, достигавшее большой остроты сопротивление угнетенных масс заставляли использовать труд рабов в рамках существующих форм эксплуатации, по сути своей феодальных. Киданьская империя развивалась по пути военно-кочевого феодализма, и рабство в ней существовало как уклад.
SLAVERY IN CHITAN EMPIRE LIAO
(907–1125)