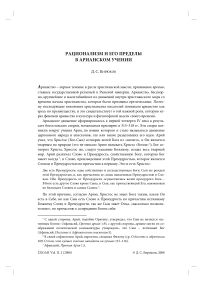Рационализм и его пределы в арианском учении
Автор: Бирюков Дмитрий Сергеевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Д. С. Бирюков (РХГА, Санкт-Петербург), на примере нескольких сквозных тем, прослеживает развитие рационалистических тенденций в арианском учении. Показывается, что доктрина Ария подразумевает учение о Премудрости и Божественном Слове, свойственном для Бога, так же как апофатические тенденции. Учение Астерия можно считать переходным между учением Ария и неоариан в плане рационалистических тенденций. Неоариане развивали собственно рационалистическое богословие, настаивая на познаваемости сущностей Бога и Сына; в отличие от доктрины Ария, неоарианство не учит о внутренней жизни Божества и, соответственно, для него не характерна апофатика.
История церкви, раннее христианство, богословие, троица, дуализм, рационализм и иррационализм, апофатизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147103262
IDR: 147103262
Текст научной статьи Рационализм и его пределы в арианском учении
Арианское движение сформировалось к первой четверти IV века в результате богословских споров, начавшихся примерно в 315–318 гг. Эти споры возникли вокруг учения Ария, по имени которого и стало называться движение церковного народа и епископов, так или иначе разделявших его идеи. Арий учил, что Христос (Бог-Сын) сотворен волей Бога из «ничего», и Он является тварным по природе (это не мешало Арию называть Христа «Богом»1); Бог сотворил Христа, Христос же, следуя указанию Божиему, создал весь тварный мир. Арий различал Слово и Премудрость, свойственную Богу, которую Бог имеет всегда 2, и Слово, произведенное этой Премудростью, которое является Словом и Премудростью по причастию к первому. Это и есть Христос:
Две есть Премудрости: одна собственная и сосуществующая Богу; Сын же рожден этой Премудростью, и, как причастник ее, лишь наименован Премудростью и Словом. Ибо Премудрость от Премудрости осуществилась волей премудрого Бога… В Боге есть другое Слово кроме Сына, и Сын, как причаствующий Его, наименован по благодати Словом и самым Сыном 3.
По этой причине, согласно Арию, Христос не знает Бога таким, каков Он есть в Себе, но как Сын есть Слово и Премудрость по причастию истинному Божиему Слову и Премудрости, так же Сын знает Отца, «насколько позволительно», по причастию к созерцанию Богом себя:
Достаточным же доказательством, что Бог невидим для всех есть то, что он невидим и для тех, что через Сына, и для Самого Сына. Скажу точнее о том, как Невидимый бывает видим Сыном: по той же силе, по какой может видеть Бог, в своей мере доступно Сыну видеть Отца, сколь позволительно 4.
Можно согласиться с Р. Вильямсом 5 в том, что здесь слова: «…по той же силе, по какой может видеть Бог…», – указывают на самосозерцание Бога, то есть имеется в виду: «…может видеть Бог [Себя]».
Интересна аргументация Ария относительно того, почему Сын не может в полноте знать Бога: потому, что произведение не может охватить умом свою причину, свое основание бытия, тем более, что эта причина сама является беспричинной, не имеющей для себя начала, ибо тому, кто имеет начало, тем более невозможно ухватить того, кто начала не имеет. Как замечает В. Лёр 6, вероятно, по этой же причине Арий утверждает, что Сын не может знать и Своей сущности – потому, что она произведена Отцом как бытийным началом, не охватываемым умом:
Ибо невозможно Ему [Сыну] исследовать Отца, каков Он сам в Себе. Ибо Сын не знает и Своей сущности: будучи Сыном, истинно осуществился по изволению Отца. И как возможно, чтобы сущий от Отца знал Родшего через постижение (ἐν καταλήψει)? Явно, что имеющему начало невозможно ухватить или объять умом Безначальнаго, каков Он есть 7.
В целом в учении Ария о познании Бога усматриваются платонические импликации. Его учение о непознаваемости Бога Сыном и людьми отсылает к традиции толкования Тимея 28 с в платонизме, и в первую очередь в христианском платонизме 8. В связи с интеллектуализмом Первоначала в доктрине Ария (тема самосозерцающего Бога) можно говорить о среднеплатонических мотивах в его учении, в противовес неоплатоническому акценту на том, что Бог-Первоначало выше ума и бытия. Среднеплатонические элементы просматриваются и в учении Ария о том, что между Божеством и миром имеется промежуточное звено – Христос, исполняющий демиургические функции (посредник-демиург – отличительная особенность систем Нумения и Альбина 9); по этой причине происхождение мира в системе Ария не может объясняться при помощи концепции излияния, эманации Божества (подобно тому, как это имеет место в неоплатонизме), что также сближает учение Ария со средним платонизмом, хотя, конечно, в данном отношении определяющую роль играет иудео-христианское учение о креационизме 10.
Однако неверно говорить, вслед за о. Г. Флоровским 11, что непознаваемый Бог Ария является неким безжизненным высшим принципом, о котором известно лишь то, что Он есть причина тварного мира. С другой стороны, вероятно, не стоит, как это делает А. Грилльмайер 12, утверждать, что Арий относил к Богу понятие бесконечности, то есть абсолютной полноты жизни. Очевидно, что определенное представление о внутрибожественной жизни доктрина Ария подразумевает, хотя он и не делает на ней акцент, – а именно, это представление проявляется в учении Ария о том, что Богу внутренне присуще некое Божественное Слово, Премудрость, которая является таковой не по причастию, как в случае Христа, но в собственном смысле.
Посредствующим звеном между учением Ария и неоарианским учением, развивавшемся во второй половине IV в. на втором этапе арианских споров аномеями (неоарианами 13) Аэцием и Евномием является учение Астерия 14.
Астерий родился в Каппадокии. Подобно Арию, он, вероятно, был учеником Лукиана Антиохийского. Подвергшись мучениям во времена Диоклетиана, Астерий стал отступником, и по этой причине он не мог принять священнического сана. По профессии он был ритором. Астерий был главным защитником ариан на первой стадии арианских споров. Около 325 г. он, по настоянию Евсевия Никомедийского и Ария, написал свое сочинение Син-тагматион 15, а в 327 г. письменно выступил в защиту положений осужденного на Никейском соборе письма Евсевия Никомедийского Павлину Тирскому.
Отрывки из этого сочинения сохранились у Афанасия, особенно в трактате «Против ариан», а также, в основном в пересказе, у Маркелла Анкирского 16.
Астерий отказался от Ариева различения двух Слов Божиих – Слова по причастию (Христа) и собственного Богу, однако, согласно Астерию, Богу присуща внутренняя Премудрость и Сила, посредством Которой Он сотворил тварный мир. Видимо, Астерия не совсем устраивала позиция Ария относительно того, что Бог является непознаваемым и невыразимым, а Сын – не может знать свою сущность. Также Астерий стремился оспорить слова главного защитника православного учения времен первого этапа арианских споров Александра Александрийского, позиция которого видна из следующей цитаты:
Но да никогда не принимает никто слова в смысле нерожденности, как думают люди с поврежденными чувствами души: ни «пребыл», ни «всегда», ни «прежде век» – не одно и то же с нерожденностью. Для указания на нерожденность человеческий ум не в состоянии и изобрести никакого имени 17.
Астерий считал, что если Александр делает акцент на невозможности обретения в речи, невозможности установления точного значения того существенного признака, который отличает область божественного от сотворенного, то необходимо провести работу над рационализацией, определением этого признака. Астерий таким образом определяет нерожденное:
Нерожденное есть то, что не создано, но всегда существует (ἀγένητον εἶναι τὸ μὴ ποιηθὲν, ἀλλ' ἀεὶ ὄν) 18.
Таким образом, соглашаясь некоторым образом с пониманием Александра Александрийского, что понятие «нерожденности» не тождественно представлению об отсутствии начала во времени, Астерий добавляет некий положительный признак для определения нерожденности, а именно, что в отношении субъекта нерожденности нельзя говорить о его создателе, т. е. что нерожденное не имеет причины для своего существования. Однако «нерожденность» для Астерия не является существенным признаком Бога как единичного существа, как это впоследствии будет у неоариан. Как мы отмечали, согласно Астерию, Богу присуща зиждительная Премудрость и Сила, и понятие «нерожденности» может прикладываться и к Премудрости, Которой Бог соде-лал Христа:
Не сказал блаженный Павел, что проповедует Христа – собственную Его, то есть Бога, Силу или Премудрость; но говорит без этого добавления: Божию силу и Божию премудрость (1 Кор 1: 24), проповедуя тем, что есть иная собственная Сила самого Бога, Ему врожденная и нерожденно соприсущая; и она-то есть родшая Христа и Творительница всего мира 19.
Как видим, у Астерия, как и у Ария, имеется определенное представление о полноте Божественной жизни, проявляющееся в учении о сонерожденной Богу Его Премудрости и Силе. Говоря о Божией Премудрости в качестве Твори-тельницы космоса, Астерий развивает взгляд Филона 20 и Климента Александрийского 21 на Божию Премудрость как помощника и устроителя творения космоса 22.
Итак, дискурс Ария предполагает, что Божественная сущность является непознаваемой и неизреченной; и хотя, согласно Арию, Бог есть нерожденный, это не является характеристикой Его сущности, но «нерожденность» представляет собой предикат, относимый к Богу наравне со многими другими 23. Мало того, понимание Арием Божественных имен, насколько можно судить, таково, что любое имя, сказываемое о Боге, может быть высказано только в плане противопоставления Божественного бытия свойствам тварного мира; в частности, Бог, согласно Арию, именуется «нерожденным» по противопоставлению «ро-жденности» Сына 24, – это одно из проявлений интенции апофатики в учении Ария. В этом плане учение Астерия выступает в качестве промежуточного звена в отношении доктрин Ария и Аэция. У Астерия, насколько можно судить по фрагментам, сохранившимся в сочинениях Евсевия Кесарийского и свт. Афанасия, отсутствуют элементы апофатики, столь важные для Ария, однако еще нет акцента на рационализме в богословии, который являлся главнейшим моментом в методологии ариан времени второго этапа арианских споров (неоариан), и в частности одного из лидеров неоарианского движения – Аэция.
В противовес Арию, неоариане следовали рациоаналистической струе в богословском дискурсе. Как справедливо замечает Рональд Хейне, вероятно, это было связано с тем, что настаивание Ария на непознаваемости Бога предоставляло их соперникам оружие, которое ставило ариан в затруднительное положение; а именно, принимая, что Божественная природа является непознаваемой и неизреченной, можно было настаивать на возможности вечного рождения Сына от Бога и Его единосущия с Богом и говорить, что как Сын рождается и каким образом Он является единосущным Отцу – это выше человеческого понимания 25. Поэтому неоариане нуждались в формализации дискурса, оперирующего с понятием Божественной природы (сущности) и природы (сущности) Сына. Они настаивали на том, что христианину необходимо знать, чему он поклоняется, какова сущность поклоняемого; если же христианин не может выразить эту сущность, значит он не знает, чему же он поклоняется 26. Таким образом, методология, принятая в учении неоариан, в отличие от арианского учения времени первого этапа арианских споров, указывает на преобладающие рационалистические мотивы в их доктрине – в смысле акцента на знании и выражении в языке образа бытия Бога и Христа. Этот подход имеет целью статическую устойчивость мысли, нашедшей свой покой в познании специфики образа бытия Бога и Христа.
Основным сочинением, в котором излагаются взгляды Аэция, является его Синтагматион, изданный в 359 г.27 Это сочинение состоит из множества небольших секций. Нередко положения, высказываемые в этих секциях, выражаются в форме силлогизма, хотя, как замечает Л. Уикхэм 28, в основном они не представляют собой силлогизма в собственном смысле – когда из двух предпосылок, большей и меньшей, делается заключение 29. Синтагматион полемически заострен против позиций двух церковных течений середины IV века, представлявших наибольшую опасность для Аэция и его партии – омиусиан, или подобосущников (то есть исповедающих, что Сын подобен по сущности Отцу), в лице Василия Анкирского и Георгия Лаодикийского, и партии исповедающих, что Сын единосущен Отцу, главным представителем которой был свт. Афанасий Александрийский. Собственно, рационализм богословской системы Аэция (так же как и его ученика Евномия) проявляется в том, что Аэций ставит в соответствие сущностям Бога и Сына (Христа) фиксированные понятия: «Нерожденный» и «Порождение», и, опираясь на них, пытается обосновать положения своей системы в соответствии с логическими законами. Согласно Аэцию и Евномию, специфичность способа бытия Бога обусловливает тот факт, что произведенное Им существует вне Его сущности, так как в противном случае либо свойство нерожденности должно было бы перейти на Его порождение, что невозможно, либо нерожденный должен был бы принять свойство произведенности, таким образом, перестав быть Богом, что также невозможно.
Таким образом, переосмыслив учение Ария, Аэций отверг тот акцент на непознаваемости и неизреченности сущности Бога, который имел место в доктрине ариан на первой стадии арианских споров.
Интересен следующий ход аргументации Аэция:
Если Нерожденный был бы Бог выше всякой причины, то Он был бы выше и рождения. Если же Он выше всякой причины, очевидно, что Он выше и рождения. Ибо он ни получил бытия от другой природы, ни Сам Себе не дал бытия.
Если же Он Сам Себе не дал бытия (αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ εἶναι μὴ παρέσχεν), и не по немощи естества, но потому, что Он превосходит всякую причину, то кто допустит, что природа, произведенная в существование, неотличима по сущности от природы, которая привела в существование, когда таковая природа не допускает рождения? 30
Насколько можно понять мысль Аэция, он утверждает, что нельзя считать, что Бог Сам себе дал бытие, то есть что Он есть причина Своего существования, causa sui . Как проницательно замечает Л. Уикхэм 31, для Аэция принять, что Бог есть причина Себя, значило бы допустить, что Его сущность имеет некоторое подобие с сущностью Сына (определяющей особенностью которой является то, что она есть порожденная, то есть «причиненная», следствие некоторой причины) – подобие в том отношении, что оба имеют для себя причину, даже если, в случае Бога, этой причиной является Он Сам.
Из этого видно, что система Аэция основана на иных философских предпосылках, чем доктрина Ария. У Ария совершенства Сына объясняются тем, что они суть таковые по причастию Божиим совершенствам: Сын есть Слово и Премудрость по причастию к собственному Слову и Премудрости Бога; Сын знает Бога «насколько возможно» по причастию к Его самосозерцанию. Дискурс же Аэция в целом направлен на то, чтобы совершенно исключить для Сына возможность быть причастным Божественному бытию, а в отношении Бога – возможность даровать Сыну участие в Своем бытии в каком-либо отношении.
Итак, хотя Аэций утверждает, что Бог не есть причина Самого Себя, однако процедура самообращенности, согласно Аэцию, осуществляется для Божественного бытия в ином плане – не в онтологическом, но в гносеологическом: Бог может знать Самого Себя, вернее – сознавать. Аэций недоумевает: если бы Нерожденный и Порождение обладали одной сущностью, то как бы Бог знал, что Он – Бог, а не Рожденный, а Рожденный – кто Он таков? Ведь, обладая единой сущностью с Рожденным, Он либо будет знать Себя то рожденным, то нерожденным, либо Его знание Себя будет не всецелым, по той причине, что Он будет «отвлекаться» на иное в Себе:
Если Бог-Вседержитель, существующий как нерожденная природа, не знает Себя как рожденную природу, а Сын, существующий как рожденная природа, знает Себя таким, каков Он есть, не будет ли тогда единосущие ложью, когда один сознает Себя нерожденным, а другой – рожденным? 32
Если никакое из невидимых [существ] не предсуществует в семени, но пребывает в определенной природе, то каким образом нерожденный Бог, будучи свободным от попадания [в какой-либо подкласс природ] 33, видит в порождении Свою сущность то как вторую, то как первую в нерожденности, сообразно с порядком первый–второй”? 34
Если Бог пребывает в нерожденной природе, то необходимо исключить, что у Него имеется знание Самого Себя в рожденности и нерожденности. Если же допустить, что его сущность распространилась на нерожденное и рожденное, то Он не будет знать Своей сущности, постоянно возвращаясь 35 к порождению и нерожден-ности. Если же рожденное, хотя бы и будучи причастно нерожденному, нескончаемо пребывает в природе рожденного, то Оно знает Себя в природе, в которой Оно пребывает, не зная, что причастно нерожденному. Ибо невозможно знать Себя и как нерожденную, и как рожденную сущность 36.
Помимо того, что здесь, возможно, имеет место определенная ирония, отметим, что навряд ли в данном случае можно говорить о мотивах, связанных со среднеплатоническим интеллектуализмом, или о влиянии на Аэция учения Аристотеля о высшем начале как самомыслящем уме 37. В отличие от учения Стагирита, в доктрине Аэция не имеется акцента на том, что знание Себя Богом есть некий непрерывный процесс самомышления; тем более, Аэций не учит о том, что это знание, или мышление, Богом Себя является конституирующим и направляющим для сущих, которые суть вне этого Божественного самомыш-ления, как это имеет место у Аристотеля. Скорее здесь можно говорить о психологизме, то есть о психологических коннотациях, которые допускает Аэций при описании Божественной жизни. Таким образом, доктрина Аэция предполагает, скорее, не Божественный Ум, но Божественное сознание, (не)способное «отвлекаться» на знание другого как Себя или сознавать Себя как другого.
Учитывая вышесказанное, можно заключить, что в отношении учения о знании Богом Себя система Аэция не является преемницей учения Ария о Божественном самомышлении, которое гораздо более традиционно и в определенном смысле следует аристотелевской интеллектуалистской парадигме – то есть, насколько можно понять то немногое, что свидетельствует о воззрениях Ария на сей счет, это мышление понимается им как процесс и оно допускает возможность причастности к Себе, – а именно причастности Христа (Сына), пусть и в весьма несовершенной степени. В этом, опять-таки, проявляется более радикальное отрицание участия Сына в Божественном бытии в случае Аэция, в противовес учению Ария.
Обратимся теперь к вопросу, который можно назвать одним из основных для понимания специфики рационализма неоарианской доктрины.
Утверждение о том, что Аэций с Евномием – рационалисты в богословии, стало общим местом 38, и обычно это связано с представлением, согласно которому неоариане учили о совершенной познаваемости Божества 39. Однако это мнение основано на не вполне твердых предпосылках. Помимо общей для неоариан тенденции делать акцент на познаваемости Божественной сущности, в пользу мнения, что, согласно неоарианам, Бог является познаваемым, казалось бы, говорят известные свидетельства православных церковных писателей. Приведем их. Свидетельство свт. Епифания об Аэции:
…С этого началась ересь, и от одного предположения поднявшись мыслью к большему произведению зла, Аэций страшно уязвил и свою душу и души ему поверивших. Затем он так увлекся мечтанием, что и сам он, и наученные им стали говорить: «Я знаю Бога совершенно, и так знаю и мыслю Его, что себя не столько знаю, сколько знаю Бога». Многое и другое мы о нем слышали, именно как страшно ухищрялся дьявол посредством его погубить души людей, им уловленных 40.
Свидетельства Сократа и Феодорита о Евномии следующие. Сократ приводит слова Евномия:
О своей сущности Бог знает нисколько не больше, чем мы. Нельзя сказать, что Он знает ее больше, а мы меньше, но – что знаем о ней мы, все то же знает и Он; и наоборот, что – Он, то самое, безразлично, найдешь и в нас 41.
Феодорит пишет о Евномии таким образом:
Он осмеливался утверждать такие вещи, чего ни один из святых не разделял: что он в точности знает сущность Божию, и что он такое же имеет знание о Боге, каковое Бог имеет о Себе 42.
М. Альбертц утверждал, что фрагменты, приписываемые Евномию Сократом и Феодоритом, суть пересказ того, что Епифаний говорит про Аэция 43. Однако Р. Вэжжьон убедительно показал, что это не так 44. Действительно, во фрагменте из свт. Епифания идет речь о знании человеком Бога лучше, чем знании себя, в то время как во фрагменте из Сократа и Феодорита говорится о знании человеком сущности Бога так же, как ее знает Сам Бог, – очевидно, что интенции в этих фрагментах различные. Непохоже, что свт. Епифаний цитирует Аэция, ведь после слов, приписываемых Аэцию, Епифа-ний говорит: «Многое и другое мы о нем слышали …». В «Синтагматионе» Аэция, который свт. Епифаний приводит в этом же разделе «Панариона», данные слова отсутствуют. Все это позволяет сделать вывод о том, что Епи-фаний именно слышал нечто об Аэции и привел его слова в соответствии со своим пониманием. Гораздо более вероятно, что именно Сократ Схоластик приводит настоящие слова Евномия, либо выражение, близкое к тому, что Евномий действительно мог говорить, поскольку целью Сократа было верифицировать учение Евномия, а не просто пересказать его; он приводит слова Евномия именно в качестве цитаты, а не как пересказ услышанного. Важно, что во фрагменте, приводимом Сократом, речь идет не о знании Бога человеком, но о знании сущности Бога. Фрагмент из Феодорита, так же как и в случае Епифания, представляет собой пересказ, причем пересказ примерно того же положения, о котором повествует Сократ. С другой стороны – и этого не отмечает Р. Вэжжьон, – фрагмент из Епифания, пересказывающий утверждение Аэция, коррелирует с языком аргументации самого Аэция, который использовал язык «осознавания» в некоторых секциях «Синтагматиона» 45. Таким образом, этот фрагмент, вероятно, передает мысль, высказывавшуюся Аэцием, в определенном отношении искажая ее.
Поэтому можно сделать вывод, что именно фрагмент из Сократа Схоластика в наибольшей степени претендует на аутентичность и именно его содержание – в смысле акцента на знании сущности Бога – согласуется с общей интенцией учения неоариан. Принципиальным является тот факт, что неоариане делали акцент именно на знании и выражении в слове сущности Бога, а не на познании Самого Бога ; из их сочинений нельзя однозначно вывести, что, посредством именования сущности Бога, они претендуют на мистическое соединение с Ним 46. Известен лишь один фрагмент из Евномия, который можно понять как указание на мистическое восхождение к Богу, и в нем не используется язык познания сущности:
Ум тех, которые уверовали в Господа, возвысившись над всякой чувственной и умной сущностью, не может остановиться и на рождении Сына, но стремится превыше (ἐπέκεινα) него, горя прежде всего желанием вечной жизни, жаждя встретить Первое 47.
Следует обратить внимание также на тот факт, что понятия «нерожден-ность» и «порождение» неоариане использовали с целью выражения специфики, соответственно, бытия Бога как существа, принадлежащего к нетварной реальности, и Христа как существа, принадлежащего к реальности тварной; в связи с этим основная интенция неоариан была направлена на то, чтобы посредством языка «сущности» выразить в речи различие между тварной реальностью и нетварной, что не подразумевает обязательное мистическое общение с Божеством. По этой причине в неоарианском дискурсе понятие «сущность» нередко (но не всегда) приобретало категориальные коннотации, отсылающие к «сущности» в смысле второй сущности по Аристотелю как инструмента для выражения в речи что-бытия, или образа бытия (в рамках доктрины неоариан – для существ, единственных в своем роде, Бога и Сына) 48. Отметим, что сказанное не отрицает того, что неоариане могли признавать возможность и собственно мистического приобщения к Богу 49 (не подразумевающего знание Его в полноте).
Мало того, утверждение о совершенном познании Бога как такового было бы странным и если смотреть изнутри арианского учения. Одна из важнейших интуиций арианства заключается в отрицании возможности соприкосновения Бога с тварным миром; следуя этой интуиции, Евномий не принимал учения о боговоплощении в собственном смысле. Он утверждал, что истинный Бог – Бог Всемогущий, Творец и Законоустроитель тварного мира – не может принять плоть и подчиниться тварным законам. Критикуя аналогию, приводимую свт. Василием Кесарийским, согласно которой Отец и Сын подобны свету нерожденному и рожденному, Евномий пишет:
Если [Василий] может доказать, что и Бог всех, Который и есть свет неприступный (1 Тим 6:16) был, или мог быть во плоти, прийти под власть, повиноваться повелениям, подчиняться человеческим законам, понести крест, то пусть говорит, что свет равен свету 50.
В доктрине Евномия невозможно нарушение онтологического порядка, нисхождения онтологически высшего к низшему; несмешанный и неизменяемый Бог никогда не претерпит смешения с тварным и изменяемым началом, но существо, принадлежащее к определенному порядку, может претерпеть трансформации внутри этого порядка. Таким образом, место боговоплощения у Евномия занимает явление тварного Сына в тварный же мир:
Неизменный и несотворенный не смешивался с тем, который произошел через творение и поэтому изменился ко злу [т. е. с человеком], но Тот, Кто и Сам будучи сотворен, пришел к родственному и единородному Себе, не из превосходящего естества по человеколюбию облекшись в более низкое, но чем был, тем и стал 51.
Этот акцент на жестком, ненарушаемом онтологическом порядке высшей Триады (Бога, Христа и Духа), делающим невозможным боговоплощение в собственном смысле, – акцент, отсутствующий у Ария и в раннем арианстве (где невозможность истинного боговоплощения принималась по умолчанию, не оговариваясь специально), – является наследием интуиций античной философии и платонического дискурса в первую очередь.
В целом можно сказать, что аргументация Евномия против возможности боговоплощения в собственном смысле, его настаивание на том, что Бог есть «свет неприступный », указывает на то, что распространенное представление, согласно которому Евномий учил о полной познаваемости Бога (а не Его природы), представляется не вполне убедительным, ибо данная аргументация, по справедливому замечанию В. Несмелова, предполагает, что между Богом и тварным миром лежит вечная и непроходимая пропасть 52, из чего следует необходимость посредствующей сферы (Сына), о которой и учит Евномий, в то время как утверждение о познаваемости Бога предполагает отсутствие этой пропасти. Поэтому – одно из двух: либо неоарианская доктрина самопротиво-речива, либо неадекватным является распространенное представление о том, что в ней подразумевается совершенное знание Бога (не находящее, на наш взгляд, окончательного подтверждения в текстах). Мы склоняемся к последнему.
Заключая обзор рационалистических тенденций в арианском движении, укажем, что рассмотренный нами материал иллюстрирует тот факт, что имеется корреляция между дискурсом, в рамках которого в определенной системе идет речь о внутрибожественной жизни, т. е. о Боге в Себе, и наличием в этой системе апофатического дискурса. А именно, с одной стороны, система Ария содержит учение о Боге в Себе (т. е. о собственных для Бога Премудрости и Силе), а с другой – Арий активно использует язык апофатики; в отличие от него, Аэций и Евномий, делая акцент на рационалистической методологии, в своем богословском языке не используют дискурс апофатики, так же как и не ведут речи о внутренней жизни Бога. Арий в этом отношении следует общей направленности традиционного богословского языка Церкви (что, разумеется, не мешает признавать его еретически мыслившим богословом на основании других факторов), в то время как Аэций и Евномий выпадают из нее.
Список литературы Рационализм и его пределы в арианском учении
- Даниелу Ж. (2003) "Платон в христианском среднем платонизме", Богословский сборник 11, 146-168
- Диллон Дж. (2002) Средние платоники (Санкт-Петербург)
- Лосский Вл. (2000) Богословие и боговидение (Москва)
- Несмелов В. (1887) Догматическая система святого Григория Нисского (Казань)
- Флоровский Г., прот. (1998) Догмат и история (Москва)
- Albertz M. (1908) Untersuchungen uber die Schriften des Eunomius (Wittenberg)
- Bardy G. (1928) "L'H¨ritage Litt¨raire d'Aetius", Revue d'Histoire Ecclesiastique 24, 823-882
- Bardy G. (1936) Recherches sur saint Lucien d' Antioche et son ecole (Paris) Eunomius (1987) The Extant Works, Text and transl. by R. Vaggione (Oxford)
- Florovsky G. (1962) "The Concept of Creation in Saint Athanasius", Studia Patristica 6, 36-67
- Grillmeier A. (19752) Christ in Christian Tradition. Vol. 1. From the Apostolic Age to Chalcedon, 451 (London/Oxford)
- Harnack А. (1901) The History of Dogma, vol. 4 (Boston)
- Heine R. (1975) Perfection in the Virtuous Life (Philadelphia)
- Kelly J. N. D. (1958) Early Christian Doctrines (London)
- Kopecek Th. (1979) A History of Neo-Arianism (Philadelphia) vol. 1
- Lhr W. (2006) "Arius Reconsidered (Part 2)", Zeitschrift fur Antikes Christentum 10, 121-157 Markellus (1972) Fragmenta e libro contra Asterium (frr. 1-128), ed. E. Klostermann,
- G. C. Hansen, in Eusebius Werke, Vol. 4, GChS 14 (Berlin)
- Jaeger H. (1961) "The Patristic Conception of Wisdom in the Light of Biblical and Rabbinical Research", Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 79, 90-106
- Parvis S. (2006) Marcellus of Ancyra and the Lost Years of the Arian Controversy 325-345 (Oxford)
- Stead C. (1964) "The Platonism of Arius", The Journal of Theological Studies 15, 16-31 Рационализм в арианском учении 226
- Stead C. (1997) "Was Arius a Neoplatonist?", Studia Patristica 32, 39-52
- Wickham L. (1968) "The Syntagmation of Aetius the Anomean", The Journal of Theological Studies 19, 532-569
- Wiles M. (1996) Archetypal Heresy: Arianism Through the Centuries (Oxford)
- Wiles M. (2002) "Eunomius: hair-splitting dialectician or defender of the accessibility of salvation?", The Making of Orthodoxy. Essays in Honour of Henry Chadwick,
- ed. R. Williams (Cambridge) 157-172
- Williams R. (1987) Arius: Heresy and Tradition (London)