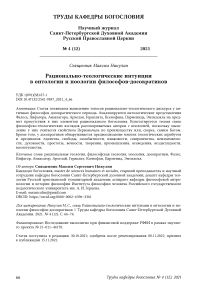Рационально-теологические интуиции в онтологии и ноологии философов-досократиков
Автор: Никулин Максим Сергеевич
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (12), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению топосов рационально-теологического дискурса у античных философов досократического периода. Анализируются онтологические представления Фалеса, Пифагора, Анаксагора, Архелая, Гераклита, Ксенофана, Парменида, Эмпедокла на предмет присутствия в них элементов рационального богословия. Констатируется тесная связь философско-теологических взглядов рассматриваемых авторов с ноологией, поскольку мышление у них считается свойством Первоначала по преимуществу или, скорее, самим Богом. Кроме того, у досократиков обнаруживается предвосхищение многих теологических атрибутов и предикатов: единства, свободы, самобытности, инаковости, совершенства, неизменяемости, духовности, простоты, вечности, творения, промышления, всеведения, вездесущности, всемогущества.
Рациональная теология, философская теология, ноология, досократики, фалес, пифагор, анаксагор, архелай, гераклит, ксенофан, парменид, эмпедокл
Короткий адрес: https://sciup.org/140294908
IDR: 140294908 | УДК: 1(091)(38):27-1 | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_4_66
Текст научной статьи Рационально-теологические интуиции в онтологии и ноологии философов-досократиков
About the author: Priest Maksim Sergeevich Nikulin
Candidate of Theology, Senior Lecturer and Research Assistant at the Theology Department of the Saint Petersburg Theological Academy; Associate Professor at the Theology Department of the Russian Christian Academy for Humanities; Post- Graduate Student at the Philosophical Anthropology and History of Philosophy Department of the Institute of Human Philosophy of the Herzen State Pedagogical University of Russia.
Funding: The reported study was funded by RFBR according to the research project number 21–011–44178.
The article was submitted 30.10.2021; approved after reviewing 08.11.2021; accepted for publication 15.11.2021.
Традиционно представителями милетской философской школы считают Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена, а элейской — Парменида, Зенона Элейского и Мелисса Самосского. Некоторые вслед за Платоном (см. «Софист»), иногда рассматривали Ксенофана Колофонского как основателя элейской школы и учителя Парменида. Однако Диоген Лаэртий (1-я пол. III в. по Р. Х.), автор единственной сохранившейся биографической истории древнегреческой философии «Жизни и мнения прославленных философов», считал Ксенофана «спорадическим» философом1, т. е. не принадлежащим ни к какой школе. С этим в настоящее время согласно большинство исследователей2. Также Лаэртий считал философом- одиночкой и Гераклита3. В настоящей статье мы рассмотрим учения Фалеса, Пифагора, Гераклита, Анаксагора, Архе-лая, Ксенофана, Парменида, Эмпедокла и попытаемся выявить у них зачатки рациональной теологии.
По мнению С. Броуди, теология есть: 1) рефлексия над божественной природой; или 2) приведение аргументации и объяснений по поводу самой идеи божества; или 3) обсуждение вопроса существования богов; или 4) размышление над основаниями или причинами теистической веры. Исходя из этих критериев, исследователь не считает теологией ни «Теогонию» Гесиода, ни физические теории Анаксимандра, Анаксагора и Диогена Аполло-нийского, применявших эпитеты, обозначающие божество, к своему Перво-началу4. Тем не менее, далее в статье, посвященной рациональной теологии в раннегреческой философии, исследователь рассматривает учения Ксенофана, Гераклита, Парменида, Эмпедокла и атомистов.
В традиционной христианской рациональной теологии атрибуты Бога подразделялись на две группы — Бога как онтологического Первоначала (собственно атрибуты) и как Личного Абсолюта (предикаты). Так, например, в современном православном догматическом богословии сохраняется подразделение свой ств существа Бога на онтологические (самобытность, неизменяемость, вечность, вездеприсутствие) и духовные (разумность и всеведение, святость, всемогущество, всеблаженство, благость, справедливость)5. Однако современные аналитические теологи хотя и не следуют традиционной классификации, все же начинают обычно с более общих свой ств и переходят к специальным, признавая особое место последних. Таким образом, современная философская теология рассматривает метафизические атрибуты (необходимость, простота, вездесущность, вечность / темпоральность) и теистические предикаты (всемогущество, всеведение, всеблагость) Бога6.
Доксографический компендий «Мнения философов»7 сообщает, что Фалес Милетский (640–562 до Р. Х.) считал Бога Умом (νοῦς) космоса, придавшим импульс первичной влаге8. По мнению Цицерона, «первый философ» Фалес был также и первым теологом, поскольку он занимался проблематикой первоначала (ἀρχή) и считал, что мир был сотворен Умом (mens=νοῦς) из воды9. Если верить этим свидетельствам, уже Фалес понимал теологию как ноо-логию. Согласно тому же компендию, Пифагор Самосский (ок. 570 — после 500 до Р. Х.) также делал мышление важнейшим свой ством Бога, поскольку он считал началами Единицу и Двоицу, при этом Монада соответствует Богу-Уму (νοῦς ὁ θεός), а Диада — миру (κόσμος)10. Впоследствии всеведение (абсолютное знание) станет одним из предикатов теистического Бога.
По свидетельству сщмч. Ипполита Римского, Гераклит Эфесский (ок. 540 — ок. 480 до Р. Х.), считал Бога «умным Огнем»11, «Словом» (τοῦ λόγου) и «Мудрым» (τὸ σοφόν)12. Это Мудрое существо от всего обособлено (κεχωρισμένον)13 и является Умом (γνώμην), управляющим (ἐκυβέρνησε) вселен-ной14. Иными словами, у Гераклита можно усмотреть начатки божественных свой ств разумности, инаковости (отделенности), т. е. по библейской терминологии святости15, и промышления о мире.
По мнению А. В. Лебедева, божественный космический Ум Гераклита и Анаксагора выполняет и демиургическую функцию. Стоический «огонь-ремесленник» (πῦρ τεχνικόν), по мнению ученого, также восходит скорее к Гераклиту, чем к Платону. Гераклит и стоики следуют традиции ионийского натуралистического монизма, тогда как Платон развивает пифагорейский дуализм16.
По свидетельству доксографии, Анаксагор Клазоменский (500–428 до Р. Х.) считал Бога Умом, творящим космос (νοῦν κοσμοποιὸν τὸν θεόν)17, т. е. имеющим ментальные и демиургические свой ства. В важнейшем ноологическом фрагменте Анаксагора, сохраненном неоплатоником Симплицием Киликийским (ок. 490–560 по Р. Х.) в его «Комментарии на “Физику” Аристотеля»18, мы также можем выявить элементы многих теологических атрибутов и предикатов. Так, Ум Анаксагора единственен (μόνος). Он самовластен (αὐτοκρατὲς), т. е. свободен, и существует Сам по Себе (αὐτὸς ἐφ’ ἑωυτοῦ), т. е. самобытен. Ум неограничен (ἄπειρον), иными словами, вездесущ. Он абсолютно иной, поскольку «не смешан ни с одной вещью (μέμεικται οὐδενὶ χρήματι)» и непричастен (μετεῖχεν) вещам. В учении клазоменца о том, что Ум всем правит (κρατεῖν) и обладает величайшим могуществом (ἰσχύει μέγιστον) предвосхищается атрибут божественного всемогущества, а в именовании Ума тончайшим (λεπτότατόν) и чистейшим (καθαρώτατον) — свой ство духовности Бога. Кроме того, согласно Анаксагору, Ум абсолютно все знает (ἔγνω) и предрешает (γνώμην … ἴσχει), т. е. обладает всеведением. Наконец, Ум является упорядочивающим началом (διεκόσμησε).
Согласно «Мнениям философов», Архелай Афинский (род. ок. 485 до Р. Х.), ученик Анаксагора и учитель Сократа, считал Бога Воздухом и Умом (ἀέρα καὶ νοῦν), но не творящим космос (κοσμοποιὸν)19. Философ, приписывая Богу некую разумность, вместе с тем как бы признает и Его духовность (вспомним, что πνεῦμα, прежде всего, означает дуновение ветра). Климент Александрийский в «Увещании к эллинам» хвалит философов Анаксимандра, Анаксагора и Архелая за то, что они в поисках первоначала поднялись над стихиями к более возвышенному принципу — бесконечному (τὸ ἄπειρον), причем последние два поставили над бесконечностью Ум (νοῦς)20.
Как передает Диоген Лаэртий, «бичеватель гомерообмана» Ксенофан Колофонский (ок. 570 — после 478 г. до Р. Х.) учил, что божественная сущность (οὐσίαν θεοῦ) имеет вид шара (σφαιροειδῆ) и совсем не подобна человеку (μηδὲν ὅμοιον ἔχουσαν ἀνθρώπωι). По мнению философа, Бог целиком (ὅλον) и весь (σύμπαντά) видит (ὁρᾶν), слышит (ἀκούειν), но не дышит (μὴ μέντοι ἀναπνεῖν). Он есть Ум (νοῦν) и Сознание (φρόνησιν), обладающее свой ством вечности (ἀίδιον)21.
Р. В. Светлов подвергает сомнению достоверность учения Ксенофана о едином и вездесущем Боге- Уме, хорошо засвидетельствованного античной традицией. По предположению ученого, «в псевдо- аристотелевском трактате “О Мелиссе, Ксенофане и Горгии”, на основе представлений исторических Парменида и Мелисса, попросту сконструировано учение, которое приписано колофонскому мудрецу- поэту»22. Тем не менее, мы, со всеми оговорками, все же рассмотрим эту традицию, так как всякое предание, как правило, наряду с позднейшими наслоениями, имеет и исторически достоверное смысловое ядро. Кроме того, если не доверять Диогену, то можно считать рассматриваемый отрывок свидетельством о рационально- теологической рефлексии времени написания самого док-сографического сборника, т. е., по крайней мере, первой половины III в. по Р. Х.
В вышеприведенном тексте, приписываемом Ксенофану, делаются высказывания о сущности Бога, т. е. речь идет о классическом топосе философской теологии — проблеме божественных атрибутов. Шарообразность, понимаемую автором, скорее всего, буквально, можно рассматривать как предчувствие божественного атрибута совершенства, поскольку шар, как известно, считался совершенной геометрической фигурой. Далее в отрывке постулируется абсолютное различие природ Бога и человека, чем отрицается их подобосущие. Впоследствии в христианском патристическом богословии будет подчеркиваться непреодолимая граница природ Творца и творения. Так, например, Псевдо- Василий23 в четвертой книге «Против Евномия» пишет:
«Если Христос глава (ἡ κεφαλὴ) мужа, а Бог глава Христа (1 Кор 11:3), и человек не единосущен Богу Христу, потому что он не Бог (οὐχ ὁμούσιος, οὐ γὰρ Θεὸς), но Христос единосущен Богу, потому что Он Бог (ὁμοούσιος Θεὸς γάρ); то, следовательно, не как Христос глава мужа, так и Бог — Христа. Ибо природа творения (κτίσεως φύσις) и творческое Божество (κτιστικὴ θεότης) не совпадают как одно и то же (εἰς ἕν καὶ ταὐτὸν οὐ συμβαίνουσιν)»24.
Вернемся к рассматриваемому свидетельству Диогена об учении Ксенофана. Далее в тексте Богу приписываются способности видения, слышания, восприятия и интеллекта, в которых можно усмотреть зачаток теологического предиката всеведения. Также отметим, что перечисленные свой ства принадлежат всему Богу всецело, т. е. в данном случае не проводится различение между божественной природой- субстанцией и ее свой ствами- атрибутами. Различение (но не разделение) последних будет характерно для греческой патристики и византийского паламизма как дифференциация сущности и энергии.
По мнению А. М. Гагинского, «парадигма тождества», характеризуемая идентичностью природы и действия в Боге, восходит к учению Аристотеля о простоте Ума- Перводвигателя и далее развивается в учениях Плотина, Мария Викторина, св. Августина Гиппонского и Боэция. Восточно- христианскую концепцию исследователь именует «парадигмой различия»25.
Таким образом, в отождествлении Ксенофаном божественной сущности и свой ств можно усмотреть предвосхищение учения божественной простоты, вокруг которой до сих пор идут активные дебаты в англо- американской аналитической философской теологии. По словам А. Р. Фокина, «эта доктрина, возникшая еще в IV–V вв. в латинской патристике и твердо укоренившаяся в западной средневековой схоластике, предполагает, что в Боге отсутствует какая-либо сложность, будь то физическая или метафизическая, и что все атрибуты Бога тождественны Его сущности, а также совпадают между собой»26.
Одно из самых ранних христианских свидетельств о простоте Бога находим у сщмч. Иринея Лионского, в нижеследующих словах которого можно усмотреть параллель мысли Ксенофана:
«Ибо Отец всего намного отстоит от эмоций и страстей, происходящих от людей. Он прост (simplex), и несложен (non compositus), и подобочастен (similimembrius), и весь сам себе подобен и равен (totus ipse sibimetipsi similis aequalis est). Ибо Он весь (totus) есть чувство (sensus), весь дух (spiritus), и весь ощущение (sensuabilitas), и весь мысль (ennoia), весь ум (ratio)27, весь слух (auditus), весь око (oculus), весь свет (lumen) и весь источник всех благ (fons omnium bonorum). Вот как подобает набожным и благочестивым говорить о Боге»28.
Примечательно, что антично- философские предпосылки формирования учения о простоте Первоначала А. Р. Фокин находит в элейской школе в онтологии Парменида29, к рассмотрению которой мы и переходим.
Учение Парменида о Бытии хорошо представлено в восьмом фрагменте, сохраненном у Симплиция30. Уже Климент Александрийский относит свойства Сущего Парменида к Богу, то есть трактует онтологию философа как рациональную теологию31. Как и рассмотренные выше мыслители, Парменид атрибутирует Первоначалу разумность, причем вплоть до отождествления Мышления (νοεῖν) и Бытия (εἶναι)32, поэтому его онтология есть ноология.
Парменид считает это мыслящее Бытие (τὸ ἐὸν) самобытным. Оно покоится само по себе (καθ’ ἑαυτό τε κεῖται) и не нуждается ни в чем (οὐκ ἐπιδευές). Во-вторых, Бытие Парменида неизменяемо. Оно «бездрожное» (ἀτρεμὲς), т. е. непоколебимое, неподвижное (ἀκίνητον) и остается тем же самым в том же самом [месте] (ταὐτόν τ’ ἐν ταὐτῶι τε μένον). В-третьих, это Сущее обладает атрибутом вечности. Оно нерожденно (ἀγένητον), неуничтожимо (ἀνώλεθρόν), безначально (ἄναρχον), непрекращаемо (ἄπαυστον) и нескончаемо (ἀτέλευτον)33. «Оно не “было” некогда и не “будет” (οὐδέ ποτ’ ἦν οὐδ’ ἔσται), так как оно “есть” сейчас все вместе [— одновременно] (νῦν ἔστιν ὁμοῦ πᾶν)». Парменид учит и о том, что «все наполнено Сущим» (πᾶν δ’ ἔμπλεόν ἐόντος), что можно сблизить с теологическим атрибутом вездеприсутствия с той оговоркой, что Бытие философа ограничено. Как было указано, важным, но дискуссионным божественным свой ством является простота. У элейца можно обнаружить и интуицию простоты Первоначала, так как он считает Бытие единым (ἕν), связным (ξυνεχές), целокупным (οὐλομελές), сплошным
(οὖλον), неделимым (οὐδὲ διαιρετόν), везде подобным (ὁμοῖον). Тем не менее, важным отличием онтологии Парменида от христианской теологии является то, что философ, как и почти всякий античный мыслитель, считал Сущее ограниченным. Оно имеет границу (πεῖρας), повсюду завершено (τετελεσμένον ἐστί πάντοθεν) и похоже на глыбу совершенно круглого шара (εὐκύκλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκωι). Как говорилось выше при рассмотрении теологии Ксенофана, шарообразность можно, помимо ограниченности, истолковать как наглядно- конкретное выражение божественного атрибута совершенства (ср. τετελεσμένον).
Кроме Ксенофана, также Эмпедокл Акрагантский (ок. 490 — ок. 430 до Р. Х.) подвергал критике антропоморфную теологию греческих поэтов и учил правильно мыслить о богах. Так, Климент Александрийский приводит фрагмент поэмы философа «Очищения», в которой есть такие слова: «Блажен (ὄλβιος), кто стяжал богатство ума (πραπίδων) в понимании божественного (θείων), жалок тот, кто лелеет темное мнение о богах (σκοτόεσσα θεῶν πέρι δόξα)»34. А неоплатоник Аммоний Александрийский в своем «Комментарии на “Об истолковании” Аристотеля» передает следующие слова, сказанные акрагантским мудрецом в том же произведении по поводу вульгарных представлений о божестве Аполлона: «Ибо оно не уснащено человеческой головой на теле, и из спины у него не прыщут две ветви [рук], нет ни ног, ни проворных колен, ни волосатого члена, оно — только Ум (φρήν), священный и неизреченный (ἱερὴ καὶ ἀθέσφατος), обегающий (καταίσσουσα) весь космос быстрыми мыслями (φροντίσι)35. Вновь констатируем сближение ноо-логии и рациональной теологии. Также у Эмпедокла можно заметить предвосхищение теологических атрибутов бестелесности, всеведения, а также элементы апофатического богословия.
В соответствии с вышеизложенным можно сделать следующие выводы касательно элементов рациональной теологии у досократиков. Прежде всего, следует констатировать ее тесную связь с ноологией, поскольку мышление у рассмотренных философов является божественным атрибутом par excellence или, скорее, самим Богом. Так, Фалес, Пифагор, Анаксагор и Архелай считали Бога Умом (νοῦς); Гераклит именовал Его Разумом (γνώμη), Словом (λόγος) и Мудрым (σοφόν); Ксенофан называл Умом (νοῦν) и Сознанием (φρόνησιν); Парменид отождествлял Мышление (νοεῖν) и Бытие (εἶναι); Эмпедокл полагал Сознанием (φρήν).
Кроме того, у досократиков присутствуют интуиции многих теологических атрибутов и предикатов: у Гераклита — инаковости и промысла; у Анаксагора — творения, единственности, свободы, самобытности, вездесущности, инаковости, всемогущества, духовности; у Архелая — духовности; у Ксенофана — совершенства, инаковости, простоты, всеведения, вечности; у Парменида — самобытности, неизменяемости, вечности, вездесущия, единства, простоты, совершенства; у Эмпедокла — инаковости, всеведения, а также зачатки апофатического богословия.
Таким образом, досократическая философия сделала большой шаг вперед по сравнению с мифологической эпохой в понимании природы Абсолюта. Семена, брошенные Сеятелем-Логосом на добрую почву греческой цивилизации, проросли и принесли плоды в виде рационально-теологической мысли, ставшей впоследствии детоводителем античного человечества ко Христу.
Источники и литература
Список литературы Рационально-теологические интуиции в онтологии и ноологии философов-досократиков
- (Ps.) Basilius Caesariensis. Aduersus Eunomium libri V // Patrologia graeca. Vol. 29. Coll. 497-768.
- Die Fragmente der Vorsokratiker / Hrsg. by H. Diels, W. Kranz. Bd. 1-3. Berlin, 1959-1960.
- Greek New Testament, 5th ed. / Ed. by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, B. M. Metzger. Munster, 2014.
- Irénée de Lyon. Contre les hérésies. Livre II / A. Rousseau, L. Doutreleau // Sources chrétiennes. T. 294. Paris, 1982.
- Фрагменты ранних греческих философов / Сост. А. В. Лебедев. Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989.
- Broadie S. Rational theology // The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy / Ed. by A. A. Long. Cambridge, 2006. P. 205-224.
- Lebedev A. V. Idealism (Mentalism) in Early Greek Metaphysics and Philosophical Theology: Pythagoras, Parmenides, Heraclitus, Xenophanes and Others (with Some Remarks on the «Gigantomachia about Being» in Plato's Sophist) // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XXIII: Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. СПб., 2019. С. 651-704.
- Quasten J. Patrology. Vol. III. The Golden Age of Greek Patristic Literature. From the Council of Nicaea to the Council of Chalcedon. Westminster, Maryland, 1986.
- Античная философия. Энциклопедический словарь / Ред. П. П. Гайденко, М. А. Солопова, С. В. Месяц и др. М., 2008.
- Гагинский А. М. Философская теология Боэция: парадигма тождества // Христианское чтение. 2019. № 1. С. 12-23.
- Давыденков О., прот. Догматическое богословие. М., 2020.
- Светлов Р. В. Рациональная теология в античности // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. 2019. № 1 (3). С. 7-16.
- Фокин А.Р. Доктрина божественной простоты: исторические формы и современные дискуссии // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. 2018. № 1 (2). С. 60-96.
- Шохин В. К. Философская теология: канон и вариативность. СПб.: Нестор-История, 2018.