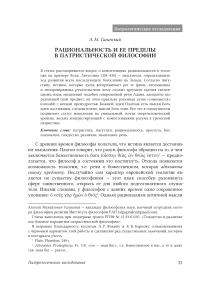Рациональность и ее пределы в патристической философии
Автор: Гагинский Алексей Михайлович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Патрологические исследования
Статья в выпуске: 3 (68), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о компетенциях рациональности в теоло- гии на примере блаж. Августина (354-430) - мыслителя, определившего ход развития всего последующего богословия на Западе. Согласно Авгу- стину, истины, которые душа воспринимает per se ipsum, несомненны и неопровержимы, ручательством чему служит аргумент против скепти- цизма; язык мышления подобен совершенной речи Адама, адекватно вы- ражающей свой предмет, на этом праязыке разумная душа «совещается» (consulit) с вечной премудростью Божией; идеи Платона есть мысли Бога, идеи постижимы, следовательно, мысли Бога тоже. Все это в совокупности поднимает статус мышления на уникальный, почти сверхчеловеческий уровень, весьма контрастирующий с компетенциями разума в греческой патристике.
Патристика, августин, рациональность, простота, бог, платонизм, тождество, различие, мышление, речь
Короткий адрес: https://sciup.org/140190189
IDR: 140190189
Текст научной статьи Рациональность и ее пределы в патристической философии
Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-33-01207: «Тождество и различие как базовые парадигмы патристической философии».
Я выражаю благодарность коллегам А. Р. Фокину и К. В. Карпову, ознакомившимся с черновым вариантом этой работы и сделавшим ряд существенных замечаний, которые я постарался учесть.
и его беспредельные компетенции в теологии были ослаблены с приходом христианства. Уже во II в. был поставлен вопрос о том, что общего у Афин и Иерусалима, ответ на который следует искать не в поверхностном отношении к эллинизму, полемическом по своему характеру (Татиан, Тертуллиан), а в преемстве обсуждаемых тем, в границах, которые устанавливаются для разума. И здесь имеется существенная разница между Востоком и Западом. Говоря несколько обобщенно, христианский Восток, для которого греческий был родным, понятным языком, относился к античному наследию по-свойски и скорее критически, тогда как христианский Запад, напротив, с благоговением взирал на эллинскую мудрость, прикладывая немало усилий к тому, чтобы перевести и освоить этот неисчерпаемый источник знаний. Возможно, в этом кроется одна из причин того, почему рационализация на Западе приобретает более масштабный характер, нежели на Востоке. Во всяком случае, исторически дело обстоит так, что богословская мысль латинян постепенно вытесняется философской, эпоха святых отцов на Западе оканчивается в VIII в., тогда как на Востоке она не прерывается и с гибелью Византии. По каким-то причинам богословие на Западе вытесняется схоластикой, вместо отцов появляются доктора: «Ангельский», «Тонкий», «Чудесный», «Непобедимый», «Общепризнанный», «Всеобъемлющий», «Торжественный» и др. Содержательно это — по-прежнему свод христианского вероучения, а по способу изложения — схоластическая философия. Что-то меняется в западном мироощущении3. На Востоке, напротив, богословие в целом превалировало над философией. Еще совсем недавно многие ученые сомневались, была ли вообще в Византии философия4. (Поэтому, кстати говоря, понятие «византийская философия» лишь недавно начало входить в научный обиход, что поразительно контрастирует с судьбой «средневековой философии».) Таким образом, античный рационализм усваивался латинскими и греческими мыслителями по-разному.
В этом отношении весьма показательна фигура блаж. Августина (354– 430) — мыслителя, определившего ход развития всего последующего богословия на Западе. Исследователи, как правило, обращают внимание на эволюцию его взглядов, поскольку с возрастом Августин все больше и больше отходил от философии. Однако при таком подходе мы можем лучше понять самого Августина, но не то влияние, которое он оказал на последующих мыслителей. Для того чтобы осознать, как слово епископа Иппонского отзывалось в веках, нужно учитывать ранние его произведения не в меньшей степени, чем поздние, ведь переписывали и изучали не только Августина периода «Пересмотров», но и Августина периода обращения. И влияние последнего не следует недооценивать. Как заметил К. Морескини, «Августин сохранил для Средних веков греческую традицию, согласно которой разум является самым драгоценным достоянием человека»5. Поэтому, даже теряя интерес к философии, Августин тем не менее выступает посредником между античным рационализмом и нарождающейся схоластикой. Причем более важным для настоящего исследования оказывается не влияние каких-то конкретных концепций, почерпнутых Августином из platonicorum libri, а определенный этос мышления, эпистемический оптимизм, в целом более характерный для философии, нежели для богословия6. Одна из причин этого, несомненно, связана с кратким увлечением скептицизмом, который Августин без особого труда преодолевал, обретая уверенность в доступности истины разуму человека.
Как известно, Августин находит неудовлетворительной скептическую критику разума, против которой он выдвигает ставший классическим аргумент. Все познаваемое можно разделить на то, что душа воспринимает через тело (per sensus sui corporis) и то, что она воспринимает посредством самой себя (per se ipsum)7. Если первое обманчиво, то второе является несомненным, с точки зрения Августина, как тезис «я знаю, что живу» (scio me vivere)8. Оспаривая скептическую точку зрения, Иппонский епископ обосновывает право разума на обладание истиной, ибо если есть хоть что-то несомненное, то из этого можно вывести все остальное: тот, кто говорит «я знаю, что я живу», говорит о чем-то одном, но если он добавит «я знаю, что я знаю, что я живу» — он будет знать уже нечто двойственное, из чего можно вывести третье, четвертое, пятое и т.д.9 Таким образом, Августин полагает, что имеются некие несомненные истины, воспринимаемые per se ipsum, благодаря которым можно преодолеть скептицизм, ибо intellectualis visio non fallitur — «разумное зрение не ошибается»10. Из этих «вечных истин» рождается то, что Августин называет «истинным словом»:
«Из этого и рождается истинное слово, когда мы говорим то, что знаем; но это слово — прежде всякого звука и прежде всякого звукового представления. Ибо тогда слово совершенно подобно знаемому, из чего также рождается его образ, поскольку из видения знания возникает видение мысли. Оно и есть слово, не принадлежащее ни к одному языку, истинное слово об истинном, в котором нет ничего от себя, но все — от того знания, из какового оно рождается»11.
Учение о внутреннем слове, не принадлежащем ни одному языку, является ключевым для понимания гносеологии Августина. Вслед за античными философами он трактует мышление как внутреннюю речь, которая предшествует произнесению слова12. По мысли Августина, языки различны и, по сути говоря, вторичны по отношению к праязыку мышления, т.е. довербальной внутренней речи, которая произносится в сердце и предшествует какому-либо словесному выражению (латинскому, еврейскому, греческому, пуническому и т.д.)13. Можно сказать, что внутренняя речь подобна совершенному языку Адама, поскольку она свободна от лингвистической (вавилонской) спецификации, благодаря чему и обеспечивает доступ разума к истинно сущему. Следовательно, все языки относительны, тогда как мышление — безусловно. Однако столь высокий статус мышление обретает лишь в сочетании с тем, что Августин называет «внутренним светом истины», т.е. божественным просвещением, когда разумная душа «совещается» с вечной Премудростью. В одном из ранних сочинений он пишет:
«И обо всем понимаемом нами мы совещаемся… с правящей внутри самого нашего ума истиной (intus ipsi menti praesidentem consulimus veritatem), словами, возможно, увещеваемые совещаться с нею. Опять же тот, с кем совещаемся, и учит, — обитающий по Писанию во внутреннем человеке Христос (Еф. 3:16–17), т.е. непреложная сила и вечная премудрость Божия, с которой собственно и совещается всякая разумная душа; но каждому подается столько, сколько он способен вместить по своей злой или доброй воле. И если когда ошибется, то не по вине советующей истины (non fit vitio consultae veritatis), как не вина внешнего света, если телесные глаза часто ошибаются; с этим светом мы невольно совещаемся о видимых вещах, чтобы он показал их нам в меру нашей распознающей силы»14.
С точки зрения Августина, слова суть условные знаки вещей (обозначаемого); знак служит для познания, в котором выделяются четыре элемента: имя, предмет, познание имени, познание предмета15. При этом познание происходит не благодаря словам или знакам, а в силу (и в меру) божественного просвещения. Иными словами, подлинный акт познания связан с божественным откровением. По-видимому, Августин таким образом переосмысляет платоновское учение о припоминании16, причем нужно заметить, что он не отказывается от теории иллюминации и на позднем этапе своей деятельности17. Слова — лишь некие приемы, посредством которых человек способен учиться, однако момент понимания обусловлен внутренним просвещением — восприятием истины непосредственно от Бога:
«Когда же дело идет об усмотрениях ума, т.е. о понимании и осмыслении, то мы говорим конечно то, присутствие чего созерцаем в том внутреннем свете истины (interiore luce veritatis), каким озарен и пользуется сам так называемый внутренний человек… Следовательно и его тоже, созерцателя истины, я не учу, говоря истину; он научается не от моих слов, а от самих явленных вещей, открываемых внутри Богом (sed ipsis rebus, Deo intus pandente, manifestis)»18.
Так Августин переходит от критики скептицизма к обоснованию возможности познания «вечных истин»: подобно тому, как глаза видят в свете Солнца, так и умственное зрение видит в свете Истины. Этот образ восходит к «Государству» Платона, где говорится о том, что солнце по отношению к зрению и зримому есть то же, что Благо по отношению к уму и умопостигаемому19. Августин, однако, вносит сюда существенные коррективы: безличное Благо, тождественное абсолютно простому и пустому Единому, наполняется жизнью и персонифицируется; философские трудности, связанные с невозможностью такой персонификации, занимавшие Плотина, Августина уже не волнуют. Как отмечает К. Море-скини, «„Единое“ Плотина и „мысль мысли“ Аристотеля через Порфирия достигнут отождествления, которое впоследствии Августин, совершенно естественным образом, приложит к онтологии Ветхого Завета, претворив id ipsum esse в Единое и в верховный Ум»20. Надо добавить, что «образ солнца» вполне типичен для всего христианского платонизма, например, он встречается у свт. Григория Назианзина21. Но между взглядами двух выдающихся богословов имеется значительная разница: если свт. Григорий не признает ни теории идей, ни учения о припоминании22, то для Августина они были очень важны, конечно, в христианизированном виде, особенно на раннем этапе творчества23. Уже будучи епископом, Августин публикует небезынтересное рассуждение, написанное в духе среднего платонизма:
«Итак, все сотворено в соответствии с особыми замыслами. Где же следует признать находящимися эти замыслы, если не в уме (in mente) Творца? ‹…› Итак, если эти замыслы всех вещей, которые уже были сотворены или еще будут созданы, заключаются в Божественном уме, а в Божественном уме не может быть ничего, кроме вечного и неизменного, и эти первые замыслы (rationes) вещей Платон называет идеями, то они не только являются идеями, но суть и самые истины (verae), так как вечны и пребывают тождественными и неизменными. Благодаря причастности им все, что есть, бывает таково, каково оно есть. Но разумная душа среди вещей, сотворенных Богом, превосходит все и весьма близка к Богу, когда является чистой; и насколько прилепляется она к Нему любовью, настолько, исполненная и просвещенная от Него светом умозрения, различает эти замыслы, благодаря созерцанию которых становится поистине блаженной. И различает она их не посредством телесных очей, но благодаря тому, что главенствует в ней самой, чем она и возвышается [над всем остальным], то есть посредством своего разумения (per intellegentiam)»24.
Таким образом, вопреки Ис 55:8: «Мои мысли — не ваши мысли», Августин полагает, что человек может постигать мысли Бога, — утверждение, вполне типичное для платоника25. Как отмечает Ф. Кэри, «идиосинкразия Августина заключается не в том, что он христианский платоник, а в том, что он удерживает платоническое понятие умопостигаемого, с его допущением, что существует глубокое родство между душой и божественным, которое проявляется в интеллектуальном видении»26. Тем не менее Августин отнюдь не отождествляет мышление человека и мышление Бога, ибо они различны как переменчивое и неизменное, временное и вечное:
«Но даже если слово наше истинно и потому справедливо называется словом, разве допустимо говорить о нем как о свете от света или же о знании от знания так, как допустимо и должно говорить преимущественно о Том Слове Божием как о сущности от сущности? Отчего же так? Оттого, что у нас быть не есть то же, что знать. Ведь мы знаем много того, что живет в памяти, и умирает, будучи преданным забвению; и хотя того уже нет в нашем знании, сами мы есть, и хотя то знание само, ускользнув из души, исчезло, мы все же живем»27.
Согласно Августину, Бог вне времени, вне «было» и «будет», поэтому к Нему неприменимо «знал» и «узнает», ибо Он знает всегда, Он неизменен. Более того, Бог абсолютно прост, поэтому в Нем «знать» тождественно с «быть». Если у всего тварного «быть» и «знать» не одно и то же, то у Бога, и только у Него, — одно. Последнее Августин поясняет:
«…знание Бога есть само и Его Премудрость, а Его Премудрость есть сама сущность или субстанция, потому что в удивительной простоте его природы быть премудрым и быть [вообще] не суть разное, но то, что есть быть премудрым, есть также и быть [вообще]. О чем я уже не раз говорил в предыдущих книгах»28.
По Августину, quod habet, hoc est — что Бог имеет, то и есть29. С его точки зрения, сущность и свойства тождественны по причине абсолютной простоты Бога, для Которого одно и то же быть премудрым и быть вообще. То же самое относится к благости, истине, бытию, величию, жизни, знанию и всему прочему, что истинно говорится о Боге30, поэтому Августин замечает: «когда я называю что-либо из этого, меня следует понимать так, как если бы я упомянул все»31. Следствием этого является то, что Бог осмысляется как тождество абстрактных понятий, в принципе постижимое, ибо ничто не мешает понять эту концепцию. Как отмечал сщмч. И. В. Попов, сущность Бога, по Августину, «…настолько же познаваема, насколько познаваемы и ее свойства»32. Однако именно поэтому ученый едва ли был прав, когда писал, что в отношении философии языка Августин «движется к той же цели, но совсем другими путями», что и каппадокийцы33. Относительно условности языков взгляды каппадокийцев и Августина действительно совпадают, но учение о внутренней речи, в сочетании с ярко выраженным платонизмом и доктриной абсолютной простоты, на мой взгляд, до некоторой степени сближают Иппонского епископа с оппонентом греческих отцов — Евномием.
Как было сказано выше, внутренняя речь подобна языку Адама, точнее даже сказать, она подобна божественному Слову, ибо как мышление воплощается в слова, так Слово облеклось в плоть34. Значит, мышление человека подобно языку Бога35, что поднимает статус внутренней речи на предельно высокий эпистемический уровень. Со своей стороны, Евномий полагает, что таким статусом обладает даже внешняя речь, ибо названия «даются вещам свыше (ἄνωθεν)»36, вследствие чего слова выражают сущность предметов, что справедливо и для богосло-вия37. Но именно поэтому кизический епископ и оказывается близок к Августину — он так же полагает, что познавательные способности человека обладают предельно высоким статусом. Однако Евномий идет по этому пути гораздо дальше, что приводит его к такому радикальному утверждению: «Бог о Своей сущности знает не больше нас»38. Возможно, эта трактовка является полемическим преувеличением, но нет дыма без огня: Евномий действительно полагал, что сущность Бога можно выразить в понятии39, следовательно, если мы познали значение этого понятия, то тем самым познали и сущность Бога. Как отмечает А. Рэдд-Галлвиц, «По Евномию, если Бог прост, то именования, которые мы относим к Богу, „обозначают“ (σημαίνειν) единую сущность, которая есть Бог… Вот почему все термины, прилагаемые к единой простой сущности, должны быть синонимами: тождество референции гарантирует тождество смысла. ‹…› Доктрина простоты, по Евномию, обеспечивала объективную природу познания Бога. Так как у Бога нет несущностных свойств, то в какой мере мы знаем Бога, в такой мы знаем саму Его сущность»40. Интересно, что и в концепции Августина предикаты отождествляются с сущностью, поскольку не предполагается несущностных свойств: «в Боге нет ничего, что говорилось бы в отношении акциденций (in Deo autem nihil quidem secundum accidens dicitur)»41. Разница между их концепциями заключается в том, что, по Августину, речь о Боге может быть как сущностной, так и относительной, т.е. касаться внутритроич-ных отношений или отношения Бога и творения (на этом он строит свою критику аномеев в V книге трактата «О Троице»), тогда как анти- тринитарная доктрина Евномия этого не учитывает. По-видимому, возможность полного (Евномий) или частичного (Августин) познания сущности Бога обусловливается философским влиянием, а также доктриной абсолютной простоты, предполагающей тождество сущности и свойств42. Разумеется, как восточные, так и западные мыслители единодушно признавали простоту Бога, однако если Августин на этом основании отрицал различие сущности и свойств, «как ошибочное и оскорбительное для Бога»43, то у каппадокийцев эта дифференция имеет прямо противоположное значение, являясь залогом благочестия, охраняя возможность богопознания44.
Таким образом, на Западе и Востоке в IV–V вв. были сформированы две фундаментальные концепции, которые можно назвать парадигмами тождества и различия, — именно они, на мой взгляд, во многом определяют специфику философско-богословских построений латинских и греческих мыслителей. Парадигма тождества намечается уже в трудах Мария Викторина и свт. Илария Пиктавийского45, а благодаря Августину становится общепризнанной в западном богословии и остается таковой по сей день. Согласно этому подходу, quod habet, hoc est — что Бог имеет, то Он и есть, т.е. сущность Бога тождественна Его свойствам, тогда как у всего тварного они различаются. На этом зиждется важнейшее положение схоластической метафизики, согласно которому эссенция и экзистенция в Боге совпадают46. Напротив, согласно парадигме различия, сущность принципиально нетождественна свойствам, поэтому то, что говорится о Боге, относится к Его действиям, т.е. энергиям, но не сущности. Как пишет свт. Василий Великий, «энергии разнообразны, а сущность проста (αἱ μὲν ἐνέργειαι ποικίλαι, ἡ δὲ οὐσία ἁπλῆ). Мы говорим, что познаем Бога нашего по энергиям, но не обещаем приблизиться к самой сущности. Ибо хотя энергии Его до нас и нисходят, но сущность Его остается недоступной»47. Поэтому в греческой патристике, напри- мер, не было традиционного для Запада учения о блаженном видении48, а компетенции разума в богословии имели существенные ограничения.
На чем основано расширение этих компетенций? Согласно Августину, истины, которые душа воспринимает per se ipsum , несомненны и неопровержимы, ручательством чему служит аргумент против скептицизма; язык мышления подобен совершенной речи Адама, адекватно выражающей свой предмет, на этом праязыке разумная душа «совещается» ( consulit ) с вечной премудростью Божией; идеи Платона есть мысли Бога, идеи постижимы, следовательно, мысли Бога тоже. Все это в совокупности поднимает статус мышления на уникальный, почти сверхчеловеческий уровень, весьма контрастирующий с компетенциями разума в греческой патристике, где отношение к познавательным способностям человека было очень умеренным не только в сфере богословия, но даже и в области познания естественных вещей49. И даже принимая во внимание эволюцию взглядов Августина, надо признать, что высокий статус рациональности в богословии останется неизменным и найдет продолжение в трудах других латинских мыслителей.
Вместе с тем, если посмотреть на это обстоятельство в более широком историко-философском контексте, то можно увидеть, что в тот момент, когда платонизм потеряет интеллектуальное доверие в Европе, то и все «истины», высказанные в соответствии с ним, неизбежно будут поставлены под сомнение. А поскольку христианство будет восприниматься как «платонизм для народа»50, данная философская ориентация окажется чуть ли не интеллектуальной удавкой на шее веры. Однако дело даже не в том, что платонизм (аристотелизм, стоицизм и т.д.) сам по себе плох, отнюдь, речь идет о том, что христианство, как заметил однажды С. С. Аверинцев, трансцендентно любой культуре51, причем не только национальной, но и культуре интеллектуальной. Стало быть, христианство, выраженное языком античной философии, будет в зените лишь до тех пор, пока жива эта философия, пока она есть настоящее для культуры, тогда как уходя в прошлое, она потянет за собой и христианство. Что и произошло в Новое время. К примеру, когда Лаплас сказал о том, что не нуждается в гипотезе Бога для объяснения устройства Вселенной, он тем самым высказал лишь мысль, что ему не нужно для этого нечто наподобие Перводвигателя. И не более того. Физика Нового времени преодолела Аристотеля, чему можно было бы только порадоваться. Однако авторитет философа был настолько велик, что вместе «с водой выплеснули и ребенка», распахнув объятия нигилизму — «самому жуткому из всех гостей»52.
Почему это происходит? По-видимому, благодаря синтезу платонизма и аристотелизма Бог стал пониматься как Идея идей, а в силу Своей удивительной простоты — наиболее абстрактным из всего, что может быть помыслено. И даже учитывая, что Бог не постигается полностью, важно то, что эта абстракция есть именно Он. Так Бог затмевается концептуальным идолом , который характеризуется тем, что «покоряется человеческим условиям опыта божественного, а его подлинность не может быть подтверждена ничем»53. Поэтому средневековая концепция Бога в Новое время перестает соответствовать действительности, ибо представления о последней начинают стремительно меняться. Появляются попытки как-то реанимировать платонизм, но они не приносят существенного успеха, потому что для платоников мир идей был живым , а в Новое время он становится пустой абстракцией , да и мышление более не божественное в нас, а всего лишь атрибут материи. Соответственно, Идея идей становится наиболее абстрактным и безжизненным из всего, что только может быть помыслено. Появляется деизм как попытка снять проблему, а также понимание того, что Бог философов и ученых — это не Бог Авраама, Исаака и Иакова. И преодоление этой ситуации является одной из самых насущных задач философии и богословия сегодня.
Список литературы Рациональность и ее пределы в патристической философии
- Aristoteles. Protrepticus//Aristotle’s protrepticus/ed. I. Düring. Stockholm, 1961.2.
- Augustinus. Contra academicos//Patrologia latina. Paris, 1841. T. 32. C. 905-958
- Augustinus. De civitate Dei//Patrologia latina. Paris, 1845. T. 41. Col. 13-803.
- Augustinus. De diversis quaestionibus octoginta tribus // Patrologia latina. Paris,1845. T. 40. Col. 11-100; рус. пер.: Августин, блаж. О восьмидесяти трех различных вопросах // Он же. Трактаты о различных вопросах: богословие, экзегетика, этика. М., 2005. С. 41-202.
- Augustinus. De Genesi ad literam//Patrologia latina. Paris,1845. T.34.Col. 245-486
- Augustinus. De magistro // Patrologia latina. Paris, 1841. T. 32. Col. 1193-1220;рус. пер.: Августин. Об учителе // Памятники средневековой латинской лите-ратуры IV-VII вв. / отв. ред. С. С. Аверинцев, М. Л. Гаспаров. М., 1998. С. 147-208
- Augustinus. De Trinitate//Patrologia latina. Paris, 1845. T. 42. Col. 819-1098;рус. пер.: Августин, блаж. О Троице/пер. А. А. Тащиана. Краснодар, 2004
- Augustinus. Retractationes//Patrologia latina. Paris, 1841. T. 32. Col. 583-656
- Augustinus. Soliloquia//Patrologia latina. Paris, 1841. T. 32. Col. 869-904
- Basilius Magnus. Adversus Eunomium // Basile de Césarée. Contre Eunome I-III // Sources chrétiennes. 299, 305 / ed. B. Sesboüé. Paris, 1982-1983
- Basilius Magnus. Epistula//St. Basile. Letres: In 3 vol./ed. Y. Courtonne. Paris,1957
- Basilius Magnus. Homiliae in hexaemeron // Basile de Césarée. Homelies surl’hexaemeron // Sources chrétiennes / ed. S. Giet. Paris, 1968. T. 26bis
- Gregorius Nazianzenus. De theologia//Gregorius Nazianzenus. Orationestheologicae/Hrsg. H. J. Sieben. Freiburg, 1996
- Gregorius Nyssenus. Contra Eunomium//Gregorii Nysseni Opera/ed. W. Jaeger,H. Langerbeck. Leiden, 1960. Vol. 1-2
- Gregorius Nyssenus. De deitate Filii et Spiritus Sancti et in Abraham//GregoriiNysseni Opera/ed. E. Rhein et al. Leiden, 1996. Vol. 10 (2). P. 117-144
- Eunomius. Liber apologeticus//Eunomius. Te Extant Works: Textand Translation/ed. R. P. Vaggione. Oxford: Clarendon Press, 1987
- Eusebius. Praeparatio evangelica//Eusebius Werke/ed. K. Mras. Berlin, 1954-1956. Bd. 8. 1-2
- Origenes. Contra Celsum//Sources chrétiennes/ed. M. Borret. Paris, 1976.T. 227
- Plato. Phaedrus//Platonis opera/ed. J. Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1901.Vol. 2. P. 227a-279c
- Plato. Respublica//Platonis opera/ed. J. Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1902.Vol. 4. P. 327a-621d
- Plato. Cratilus//Platonis opera/ed. J. Burnet. Oxford: Clarendon Press, 1901.Vol. 1. P. 383-440
- Socrates. Historia ecclesiastica//Socrates’ ecclesiastical history/ed. W. Bright.Oxford: Clarendon Press, 1893. P. 1-330
- Аверинцев С. С. Смысл вероучения и формы культуры//Христианствои формы культуры сегодня. М., 1995. С. 33-47
- Брэдшоу Д. Аристотель на Востоке и на Западе: Метафизика и разделениехристианского мира. М., 2012
- Василий(Кривошеин), архиеп. Проблема познаваемости Бога: сущностьи энергия у святого Василия Великого//Он же. Богословские труды. НижнийНовгород, 2011. С. 527-535
- Василий (Кривошеин), архиеп. Простота Божественной природы и разли-чия в Боге по св. Григорию Нисскому//Он же. Богословские труды. НижнийНовгород, 2011. С. 614-643
- Диллон Дж. Средние платоники: 80 г. до н.э. -220 н.э. СПб., 2002
- Карфикова Л. Имена и вещи согласно Григорию Нисскому и ЕвномиюКизическому//EINAI: Проблемы философии и теологии. СПб., 2012. № 1.С. 282-306
- Каприев Г. Византийская философия: понятие, аксиоматика, рецеп-ция // Сайт Богослов.ру. URL: htp://www.bogoslov.ru/text/print/2686964.html (датаобновления 18.07.2012; дата обращения: 08.10.2015)
- Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М., 1979
- Марион Ж.-Л. Идол и дистанция//Символ. Париж; М., 2009. № 56
- Морескини К. История патристической философии. М., 2011
- Нестик Т. А. Понятие внутреннего слова в средневековой философиимышления (Августин и Фома Аквинский)//Знание и традиция в истории ми-ровой философии: Сборник статей. М., 2001. С. 81-100
- Ницше Ф. Воля к власти. М., 2005
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: Сочинения. М.; Харьков, 2001
- Попов И. В. Личность и учение блаженного Августина//Он же. Трудыпо патрологии. Сергиев Посад, 2005. Т. 2
- Фокин А. Р. Формирование тринитарной доктрины в латинской патристи-ке. М., 2014
- Ayres L. Augustine and the Trinity. Cambridge University Press, 2010
- Bradshaw D. Augustine the Metaphysician//Orthodox Readings of Augustine/ed.G. Demacopoulos, A. Papanikolaou. New York: Crestwood, 2008. P. 227-252
- Cary Ph. Augustine’s Invention of the Inner Self: Te Legacy of a ChristianPlatonist. Oxford, 2000
- Kirwan Ch. Augustine. London; New York, 1989
- Kirwan Ch. Augustine’s Philosophy of Language//Te Cambridge Companion toAugustine/ed. Stump E., Kretzmann N. Cambridge University Press, 2001. P. 186-204
- Madec G. Petites études augustiniennes. Paris, 1994
- Nash R. Te Light of the Mind: St. Augustine’s Teory of Knowledge. Kentucky,1969
- O’Daly G. Augustine’s Philosophy of Mind. Berkeley, Los Angeles, 1987
- Radde-Gallwitz A. Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and the Transformationof Divine Simplicity. Oxford University Press, 2009
- Rist J. Augustine: Ancient Tought Baptized. Cambridge University Press, 1994
- Schumacher L. Divine Illumination: Te History and Future of Augustine’sTeory of Knowledge. Chichester, 2011
- Tollefsen T. T. Te Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor.Oxford University Press, 2008
- Vaggione R. P. Eunomius of Cyzicus and Nicene Revolution. Oxford, 2000
- Van Fleteren F. Plato, Platonism//Augustine through the Ages: An Encyclopedia/ed. Fitzgerald A. D. Michigan, 1999. P. 651-654