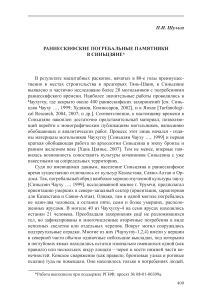Раннескифские погребальные памятники в Синьцзяне
Автор: Шульга П.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XV, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521561
IDR: 14521561
Текст статьи Раннескифские погребальные памятники в Синьцзяне
В результате масштабных раскопок, начатых в 80-е годы преимущественно в местах строительства в предгорьях Тянь-Шаня, в Синьцзяне выявлено и частично исследовано более 20 могильников с погребениями раннескифского времени. Наиболее значительные работы проводились в Чаухугоу, где вскрыто около 400 раннескифских захоронений [см. Синьцзян Чауху …, 1999; Худяков, Комиссаров, 2002], и в Янхае [Turfanologi-cal Re^^earch, 2004, 2007; и др.]. Соответ с твенно, к настоящему времени в Синьцзяне накоплен достаточно представительный материал, позволяющий перейти к монографическим публикациям могильников, написанию обобщающих и аналитических работ. Процесс этот лишь начался - изданы материалы могильников Чаухугоу [Синьцзян Чауху …, 1999] и первая краткая обобщающая работа по археологии Синьцзяна в эпоху бронзы и раннем железном веке [Хань Цзянье, 2007]. Тем не менее, впервые появилась возможность сопоставить культуры кочевников Синьцзяна с уже известными на сопредельных территориях.
Судя по имеющимся данным, население Синьцзяна в раннескифское время существенно отличалось от культур Казахстана, Саяно-Алтая и Ор-доса. Так, погребальный обряд наиболее хорошо изученной культуры чауху [Синьцзян Чауху …, 1999], исследованной южнее г. Урумчи, предполагал ориентацию умерших в северо-западный сектор (ориентация, характерная для Казахстана и Саяно-Алтая). Однако, там в одной могиле погребались не один-два человека, а останки пяти, семи и более умерших, расположенных ярусами. В могиле 40 из Чаухугоу-4 на семи ярусах находились останки 21 человека. Преобладали захоронения ещё не разложившихся тел, но зафиксированы и многочисленные вторичные погребения в виде неполных скелетов или отдельных черепов. Вокруг могил сооружались подтреугольные оградки. Многие из них (Чаухугоу-1,2,4) имели у вершин в северной части обычно одиночные небольшие выкладки, под которыми в неглубоких ямках находились остатки изначально имевшихся одной (как правило) или нескольких шкур лошади – череп и кости нижней части конечностей. Конское снаряжение (как правило, бронзовые удила и роговые псалии) туда не помещали. Оно находилось только в погребениях людей.
В могилах расположенной восточнее г. Урумчи культуры субэйши (суба-ши) также встречаются ярусные захоронения, но преобладают одиночные погребения умерших, ориентированных в юго-восточный сектор, чего нет на Саяно-Алтае и в Казахстане.
Сохранившиеся в сухом грунте мумифицированные тела умерших людей и изделия из органики, впервые позволяют изучать на этнографическом уровне одежду, причёски и различное снаряжение раннескифских кочевников. Особый интерес представляют деревянные ведёрца из Янхая с изображениями животных и орнаментами, а также деревянные луки с горитами (рис. 1. – 17–19). На Саяно-Алтае подобные находки происходят только из мерзлотных погребений V-ІІІ вв . до н. э. Довольно часто в захо ронениях встречаются бронзовые ножи (в том числе кольчатые), каменные оселки и подвески. Отличительной чертой культур чауху и субэйши является большое количество помещаемых с умершими керамических сосудов и пряслиц (рис. 1. – 13), отсутствующих в раннескифских могилах на примыкающих территориях Казахстана и на Саяно-Алтае.
Характерных для раннескифских культур металлических предметов вооружения, сбруйной и поясной фурнитуры, а также искусства в Синьцзяне найдено сравнительно немного. Лучше всего известно конское снаряжение, но представлено оно почти исключительно трёхдырчатыми псалиями (учтены изображения 18 псалиев примерно от 14 уздечек) и двусоставными удилами (от 16 уздечек). При этом лишь два псалия от одной уздечки с р. Или бронзовые (рис. 1. – 1). Остальные изготовлены из рога, кости и даже дерева. Все удила бронзовые (рис. 1. – 1, 3, 4–6), но в Янхае-2 они заменялись костью ноги барана (?) с отверстиями на концах (рис. 1. – 2). Остальная сбруйная фурнитура (распределители, застёжки, пронизки и подпружные пряжки) представлена единичными экземплярами. Не отличается разнообразием и поясная фурнитура. Концевых поясных блях и боковых подкововидных пряжек найдено по 3–4 экземпляра (рис. 1. – 7–9 и 10–12). Примерно столько же поясных обойм и ворворок. Из вооружения учтено 4 кинжала, четыре чекана (рис. 1. – 14, 15), две секиры, а также около 40 наконечников стрел из бронзы и рога, несколько десятков деревянных наконечников. Из предметов культа и украшений в значительном количестве представлены зеркала (имеются изображения 11 экз.) и серьги (более 15 экз.). Зеркала бронзовые, диаметром не более 10, 12,5 см (рис. 1. – 20–23). Из них восемь с петельками по центру (в том числе три с бортиками) (рис. 1. – 20, 22, 23), два с длинными ручками (рис. 1. – 21) и одно с крупной боковой петлёй-ручкой из переходного комплекса первой половины VI в. до н. э. Следует отметить два экземпляра с петельками на обороте из Чаухугоу-4. Одно из них из могилы 165 с изображением свернувшегося хищника или дракона и невысоким валиком по краю неоднократно публиковалось в русскоязычной литературе (рис. 1. – 22). Второе же зеркало с изображением свернувшегося существа из могилы 114, осталось не замеченным (рис. 1. – 23). Впрочем, и сами китайские
Рис. 1. Инвентарь из погребений раннескифского времени. Синьцзян.
исследователи, опубликовав его схематичный рисунок без разреза на фоне керамического сосуда [Синьцзян Чауху …, 1999, рис. 58. – 13, с. 80–81], «забыли» о нём и не включили в итоговую часть [Синьцзян Чауху …, 1999, с. 139–140, рис. 98]. Из украшений отметим несколько золотых серёжек с характерными для Казахстана и Саяно-Алтая коническими привесками. У одной серьги конус был покрыт золотой зернью. Выделяются специфические серьги с опускающимся плоским довольно узким или ложечковидным (обычно расширяющимся к низу) стерженьком (рис. 1. – 16). Аналогичных изделий на указанных территориях автору не известно, хотя сам принцип фиксации серёжек на мочке уха при помощи загнутого верхнего конца (а не крупного колечка) известен в Аржане-1 [Грязнов, 1980, рис. 11. – 10, 11].
Анализ инвентаря из раннескифских погребений Синьцзяна указывает на его особую близость материалам из Саяно-Алтая и Казахстана. Прежде всего это касается специфичных поясных блях и пряжек в большом количестве найденных в Туве, а также в предгорьях Алтая [Шульга, 2008]. Из вооружения полные аналогии имеют многие наконечники стрел. Кинжалы подобны известным в Казахстане, а чеканы – найденным в Минусинской котловине. Подобие прослеживается также в форме большинства псалиев и удил. При этом последние, на первый взгляд, близки минусинским удилам, имеющим на внешних кольцах дополнительные отверстия. В действительности, минусинские удила существенно отличаются, а значительная их часть находят прямые аналогии в Ордосе. В комплексе конское снаряжение из исследованных памятников Синьцзяна демонстрирует особый путь его развития. Специфика прослеживается и по другим категориях инвентаря.
В целом, учитывая наличие особых форм погребальной обрядности и керамики, можно констатировать существование в Синьцзяне самостоятельных археологических культур раннескифского времени. Имеющиеся материалы позволяют датировать известные погребения в Синьцзяне по аналогии с Саяно-Алтаем с начала VII по середину VI вв . до н . э. П ри этом важно подчеркнуть, что относительно поздняя (по материалам из Саяно-Алтая) сбруйная и поясная фурнитура в Чаухугоу-1,4 появляется также в погребениях завершающего этапа существования этих могильников. Эти наблюдения подтверждают тезис о синхронном изменении материальной культуры на данных территориях в VII–VI вв. до н. э.