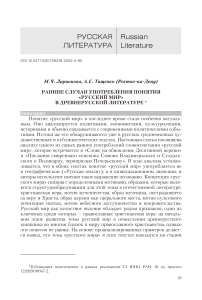Ранние случаи употребления понятия «русский мир» в древнерусской литературе
Автор: Ларионова М.Ч., Тищенко А.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Понятие «русский мир» в последнее время стало особенно актуальным. Оно анализируется политиками, экономистами, культурологами, историками и обычно связывается с современными политическими событиями. Истоки же его обнаруживаются уже в русских средневековых художественных и публицистических текстах. Настоящая статья посвящена анализу одного из самых ранних употреблений словосочетания «русский мир», которое встречается в «Слове на обновление Десятинной церкви» и «Послании смиреннаго епископа Симона Владимерьскаго и Суздальского к Поликарпу, черноризцю Печерьскому». В ходе анализа устанавливается, что в обоих текстах понятие «русский мир» употребляется не в географическом («Русская земля»), а в цивилизационном значении, и авторы используют именно такое выражение осознанно. Концепция «русского мира» связана с определенными мотивами, образами, которые являются структурообразующими для этой темы в отечественной литературе: христианская вера, мотив мученичества, образ мученика, пострадавшего за веру и Христа, образ церкви как сакрального места, мотив культового почитания святых, мотив небесного заступничества и покровительства. Русский мир как целостное явление обладает рядом признаков, один из ключевых среди которых - православная христианская вера: на начальном этапе развития темы русский мир в осмыслении древнерусского книжника во многом близок к миру православного христианства, однако эти понятия не равны. На основе проанализированных примеров делается вывод, что тема «русского мира» в этих текстах находится на стадии формирования, однако она является устойчивой уже в ранних памятниках древнерусской литературы.
Русский мир, древнерусская литература, христианство, «слово на обновление десятинной церкви», «послание симона к поликарпу»
Короткий адрес: https://sciup.org/149144372
IDR: 149144372 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-90
Текст научной статьи Ранние случаи употребления понятия «русский мир» в древнерусской литературе
Понятие «русский мир» в последнее время прочно закрепилось в различных сферах и стало предметом обсуждений исследователей из разных областей гуманитарных наук. В рассмотрении русского мира как особого целостного явления сложилось несколько подходов: геополитический [Дугин 2012; Столяров 2004; Цымбурский 1993], экономический [Поло-скова, Скринник 2003], цивилизационно-культурологический [Нарочницкая 2003; Тишков 2018]. Можно выделить также религиозное осмысление этого понятие, которое находит отражение, например, в выступлениях патриарха Кирилла. Это понятие наднационально и внетерриториально, под «русским миром» осознается особая идея межгосударственного и межконтинентального сплочения людей, объединенных неравнодушием к России и считающих, что у России свой особый путь развития и важная роль в мировом сообществе (см. об этом подробнее: [Ларионова, Тищенко 2019]).
Дискуссии о русском мире приобретают особую остроту и актуальность в связи с современными политическими событиями, истоки же концепции русского мира обнаруживаются уже на первых этапах становления отечественной литературы, однако филологических работ, в которых последовательно бы рассматривалась концепция русского мира сквозь призму художественных текстов, в настоящее время не представлено. Мы считаем, что с точки зрения литературоведения тема русского мира – это отражение в художественной литературе и публицистике в виде определенного набора тем, сюжетов и образов сложного многостороннего явления, представляющего собой объединение людей, связанных общностью истории, русским языком и культурой, ментальностью, привязанностью к России и интересом к ее судьбе.
Цель настоящей статьи – представить результат анализа ранних случаев употребления словосочетания «русский мир», которое встречается в двух текстах древнерусской литературы – «Слове на обновление Десятинной церкви» и «Послании смиреннаго епископа Симона Владимерьскаго и Суздальского к Поликарпу, черноризцю Печерьскому». На существование такого употребления понятия «русский мир» в русской средневековой книжности указал А.А. Роменский [Роменский 2015], однако небольшой объем заметки не позволил автору развить мысль о русском мире как особой концепции, к тому же в этой публикации исследователь рассматривает русский мир сугубо в историко-географическом разрезе, определяет, какая именно территория подразумевалась под таким именованием. В нашей работе мы осмысляем «русский мир» не как территориальное образование, а как особое явление, отразившееся в отечественной словесности, и как тему, ставшую сквозной в русской литературе.
Исследование и его результаты
Памятник письменности, известный под названием «Слово на обновление Десятинной церкви», относится к раннему периоду отечественной литературы, и это памятник с интересной судьбой: он увидел свет лишь в 1850 г. в журнале «Киевлянин», где это произведение как часть своей статьи напечатал М.А. Оболенский [Оболенский 1850] по списку, как отмечает сам издатель, XVI в., и позже «новых рукописей обнаружено не было, так что издание М.А. Оболенского остается единственным источником сведений об этом достойном образце древнерусской ораторской прозы» [Назаренко 2013, 18]. «Слово…» не стало предметом пристального внимания исследователей, этот памятник малоизвестен, он не включен в академическое собрание «Библиотека литературы Древней Руси». Исключение составляет подробная работа историка Древней Руси и Русской церкви Александра Васильевича Назаренко [Назаренко 2013], которая явилась результатом колоссального труда ученого по исследованию «Слова…» в связи с почитанием мощей святого Климента, восстановлению предполагаемого оригинала рукописи (так называемого прото-«Слова») и обнаружению связанных со «Словом…» текстов. Однако эта работа носит характер историко-культурологический, в ней есть элементы лингвистического анализа, но не литературоведческого, и в современном отечественном литературоведении подробного анализа этого текста не встречается.
Время создания памятника вызывает споры исследователей. Событие «обновления» Десятинной церкви произошло в 1039 г., и некоторые исследователи связывают дату написания текста с этим годом [Ужанков 1994; Чичуров 1990; Уханова 1998]. Однако, согласно мнению А.В. Назаренко, «такая датировка исключена (и на это уже не раз указывалось), поскольку Владимир Святой назван в тексте “праотцем” и “прародителем” князя-обновителя, что никак не походит к Ярославу Мудрому» [Назаренко 2013, 63]. Ю.К. Бегунов считает, что «Слово…» было создано в период княжения Изяслава Ярославича (1054–1078) [Бегунов 1974]. А.Ю. Карпов отмечает, что «Слово…» написано на рубеже XI–XII вв. [Карпов 1992]. К этим точкам зрения присоединяются и другие исследователи. А.В. Назаренко приходит к выводу, что историческими причинами создания «Слова…» явились церковная политика киевского князя Изяслава Мстиславича и выдвижение на митрополию Климента (Клима) Смолятича, которое произошло в 1147 г. [Назаренко 2013]. Таким образом, точная датировка памятника письменности до сих пор не известна, разные точки зрения исследователей основываются на исторических фактах, языковых особенностях текста, сопоставлениях с другими произведениями.
«Слово…» посвящено переосвящению («обновлению») Десятинной церкви (Храма Успения Пресвятой Богородицы) в связи с перенесением в церковь мощей Святого Климента Римского из Херсонеса. Почитание этого святого на Руси имело особое значение: «Начальный период христианизации Руси прежде всего был связан с личностью святого Климента Римского, ученика апостола Петра, епископа Рима, который в 98 г. был сослан в Херсонес, где и погиб мученической смертью в Казачьей Бухте будущего Севастополя» [Жупник 2021, 102]. О перенесении мощей святого Климента сведений не очень много. В «Повести временных лет» читаем: «Во-лодимеръ же поимъ <…> и попы корсуньскыя, мощи святаго Климента и
Фива, ученика его, и пойма сьсуды церковныя, иконы на благословенье себе. Постави же церковь святаго Иоана Предтечю в Корсунѣ на горѣ, иже ссыпаще средѣ града, крадуще приспу, и яже и церкви стоить и до сего дни» [Повесть временных лет 1997, 160]. Эта запись в «Повести…» датируется 6496 (988) г., то есть годом Крещения Руси, и, как отмечает исследователь, «останки святого использовались в крещении Киевской Руси, что было воспринято как непосредственное участие святого в просвещении Руси» [Жупник 2021, 104].
«Слово на обновление Десятинной церкви» пронизано торжественно-восторженным пафосом, этот текст представляет собой прославление христианства как благодати, пришедшей на Русь. Начальные слова произведения «Тако и сего церковнаго солнца, своего угодника, нашего же заступника, святаго реку достоино священномученика Климента, отъ Рима убо въ Херсонь, отъ Херсоня въ нашю Рускую страну створи приити Хри-стосъ Богъ нашь, преизобильною милостию въ наше вѣрныхъ спасение» [Оболенский 1850, 144–145] выдвигают роль священномученика Климента в христианизации Русской земли на первое место – святой осмысляется автором «Слова…» как воплощение христианского учения и идеи спасения людей, населяющих Русь: «Но да сбудется реченное: благодатию есте спасени, идѣ умножатся грѣси, ту преизъбилова благодать, идѣже бо жертвици бѣсомъ бѣша, ту святыя церкви славятъ Отца и Сына и Святаго Духа, еже пришествиемъ святаго Климента створися и утвердися» [Оболенский 1850, 145].
В самом начале текста употребляется словосочетание «русский мир»: «славимъ и хвалимъ и кланяемся въ Троицѣ поему Богу, благодаряще того вѣрнаго раба, иже умножи своего господина талантъ не токмо въ Римѣ, но всемус и въ Херсонѣ, еще и въ Рустемъ мирѣ , ркуще къ нему: мучени-комъ похвала, святителемъ удобрение и неподвижимое основание церкви Христовои, еиже врата адова не удолеютъ, и присныи заступнице странѣ Рустеи» [Оболенский 1850, 145]. Примечательно, что автор «Слова…» пишет «еще и въ Рустемъ мирѣ», тем самым подчеркивая масштабность распространения христианства: употребление именно такого словосочетания, а не, к примеру, «Русская земля», «страна Русская», которые наряду с ним используются в тексте, делает возможным предположение, что использование данной конструкции осознанно, и здесь акцентируется внимание не на территориальных границах, как в словах «земля», «страна», – здесь осмысляется цивилизационный аспект, значение которого состоит в объединении людей, в основе которого лежат определенные духовные ценности.
В тексте создан возвышенно-идеальный образ священномученика Климента: «церковное солнце», «заступник», «вѣнче преукрашенныи славному и честному граду нашему и велицѣи митрополии», «апосто-ломъ сопрестольниче, ангеломъ равночестне», «по истинѣ блаженъ ecи» [Оболенкий 1850, 144–147]. Фигура Климента Римского утверждается автором «Слова…» как особый символ, закреплявший за церковью и христианством на Руси независимость от Византии, а также утверждавший равенство христианской Руси и других христианских стран: «На первом этапе обладание этой общехристианской святыней способствовало выработке концепции о равенстве ее владельца, Руси, другим христианским странам» [Уханова 2000, 24]. В самом начале «Слова…» подчеркивается и независимость в обретении мощей святого Климента – как дара свыше: «священномученика Климента, отъ Рима убо въ Херсонь, отъ Херсоня въ нашю Рускую страну створи приити Христосъ Богъ нашь» [Оболенский 1850, 144–145].
В связи с образом святого Климента возникает набор тем и мотивов, которые станут характерными для структуры темы «русского мира». Во-первых, в центре повествования – тема прославления христианства, а конкретное воплощение христианской благодати связывается именно с мощами священномученика Климента. Примечательно, что в авторском сознании это символически связывается с солнечным светом: «по истиньнѣ честное твое тѣло лежа аки солнце просвещаешь вселенную» [Оболенский 1850, 145]. Тема пришедшего христианства раскрывается при помощи оппозиции добра и зла. В начале текста находим момент, где обретенная христианская благодать противопоставлена дохристианскому язычеству: «Не къ исьтвеннымъ приснымъ рабомъ створи своему угоднику приити, но къ врагомъ и уступникомъ, о нихъже речено бысть: пожроша сыны и дщери своя бѣсомъ» [Оболенский 1850, 145]. Очевидно, что дохристианский период, связанный с «отступничествами» и жертвоприношениями, оценивается автором негативно. Противопоставление дохристианских культов и пришедшего христианства ярко проявляется и в «Повести временных лет»: по окончании повествования о крещении Владимира после краткого сообщения о перенесении им мощей святого Климента летописец сообщает об уничтожении языческих идолов: «И яко приде, повелѣ кумиры испроврещи, овы исѣщи, а другыя огньви предати. Перуна же повелѣ привязати кь коневи хвосту и влещи с горы по Боричеву на Ручай, и 12 мужа пристави бити жезлиемь. Се же не яко древу чюющю, но на поругание бѣсу, иже прильщаше симъ образомъ человѣкы, да возмѣстье прииметь от человѣкъ» [Повесть временных лет 1997, 160]. Образ Климента в «Слове…» становится будто закреплением и утверждением христианской веры на Руси: «святыя церкви славятъ Отца и Сына и Святаго Духа, еже пришествиемъ святаго Климента створися и утверди-ся», «преславная же вѣра възрастаетъ наипаче», «неподвижимое основание церкви Христовои» [Оболенский 1850, 145].
Во-вторых, это мотив небесного заступничества, покровительства свыше: «Тако сего церковного солнца, своего угодника, нашего же заступника», «присныи заступнице странѣ Рустеи», «спасение себѣ же и всему роду своему, рекъ жет и странѣ нашей, якожъ и вѣруемъ» [Оболенский 1850, 144–145], который является характерным для многих древнерусских произведений, а в этом тексте становится сквозным – это и помощь свыше: «Бѣси прогоними бываютъ и недузи отбѣгаютъ, рати безъ успѣха възвращаются и еретицы проклинаются» [Оболенский 1850, 145], и указание истинного пути спасения: «благодатию есте спасени», «тобою обил-нѣ наполняющеся благоденьствуемъ, грѣховъ прощение тобою, угодниче
Христовъ, надѣемся получити о уповании жизни вѣчныя» [Оболенский 1850, 145–146], и христианская радость прославления Бога, которую обретает Русь: «Тобою Рустии князии хвалятся, святители ликуютъ, иереи веселятся, мниси радуются, людие добродушьствуютъ, приходяще теплою вѣрою къ твоимъ христоноснымъ костемъ, святыню почръпающе и хва-ляще Бога», «градъ славнѣи, имѣя всечестное твое тѣло, и весело играетъ хвально воспѣвая, якоже бо небо другое на земли истинно показася» [Оболенский 1850, 145].
В-третьих, в «Слове…» можно выделить определенные ценности, которые являются составляющими русского мира как цивилизационного понятия. В первую очередь это категории христианской веры (обретение христианской веры – ключевой вопрос, с которым связана фигура Климента в тексте) и любви – это христианская любовь к Богу и небесным заступникам, и божественная благодать и любовь к людям, и любовь-благодарность Богу: «и сподоби ны всегда съ всѣми блазе угожешими тамош-нихъ добротъ бес сытости присно насыщатися» [Оболенский 1850, 147]. Немаловажен мотив христианского мученичества: «Треблаженъ по ис-тинѣ ты явися Клименте, иже за Троицу пострада и тако научив створи-ти» [Оболенский 1850, 146]. В этом смысле образ Климента становится собирательным образом христианского мученика, пострадавшего за веру и являющегося идеалом для всех верующих: «Семантическое поле мученичества затрагивает основные сущностные начала христианского вероисповедания. В христианстве присутствует особенное отношение к мученичеству. <…> в религиозном сознании понимание противостояния переносится в духовное измерение, в пространство не внешней, а внутренней борьбы человека с греховным началом в нем самом» [Перова 2016, 110]. Таким образом, мотив мученичества, связанный со святым Климентом, всякий раз напоминает верующим о непростом, но правильном пути, проложенном Христом. Кроме этого, с мотивом мученичества связана и сама Десятинная церковь: «Мученический характер этого храма также подчеркивался тем, что он был поставлен на месте двора варяга-мученика, убитого с сыном при попытке взять последнего для принесения в жертву идолам в годы языческого правления Владимира» [Костромин 2016, 150].
Символично, что одно из самых ранних употреблений словосочетания «русский мир» в таком виде обнаруживается именно в «Слове на обновление Десятинной церкви», ведь Десятинная церковь (церковь Успения Пресвятой Богородицы) – это первая каменная церковь на Руси, которую воздвиг Владимир Святославич – креститель Руси: «По сем же Володимиру живущю в законѣ крестьяньстѣм, и помысли создати каменую церковь святыя Богородица, и, по славъ, приведе мастеры от Грькъ. Заченшю зда-ти, яко сконча зижа, украси ю иконами и поручивъ ю Настасу Корсуняни-ну, и попы корсуньския приставы служити вь ней, вда ту все, еже бѣ взялъ в Корсуни: иконы, и ссуды церковныя и кресты» [Повесть временных лет 1997, 166]. Церковь – это не только архитектурный памятник, который в Древней Руси носил еще и оборонительное значение, но и символ христианской веры, объединяющий людей. Поэтому важно отметить, что на на- чальных этапах концепция русского мира в таком виде, как мы ее осмысляем, полностью связывается с религиозными ценностями – под покровительством религии начинает развиваться национальное самосознание.
Важно сказать, что имя священномученика Климента связывается еще и с деятельностью Кирилла и Мефодия: «Нельзя не заметить известной аналогии действий князя Владимира и Константина Философа. Последний “открыл” культ Климента для христианского мира, так и Владимир “открыл” его для Руси. Первоучитель славян перенес часть мощей Климента из Херсонеса в Рим, так и Владимир перенес голову Климента из Херсонеса в Киев» [Бегунов 1974, 31]. Существует даже гипотеза о путешествии солунских братьев по землям славян с мощами святого Климента, однако она «основана лишь на логическом допущении» [Уханова 2000, 16]. Тем не менее, очевидная связь кирилло-мефодиевской миссии и почитания святого Климента позволяет рассмотреть и этот факт сквозь призму русского мира: проповедники христианства и славянские первоучители Кирилл и Мефодий являются создателями нового славянского алфавита, который стал важной частью русского культурного кода.
Таким образом, очевидно, что словосочетание «русский мир» используется в тексте «Слова…» неслучайно. Семантическое наполнение этого понятия гораздо шире, чем обозначение территории, и более абстрактно, чем обозначение народа или цивилизации. На материале этого текста можно выделить некоторые признаки русского мира, позволяющие рассматривать это понятие как нечто целостное, и признаки эти в «Слове…» полностью связываются с христианской верой. Безусловно, здесь русский мир – понятие еще становящееся, формирующееся, но концепция эта прочна и явна. В этом тексте русский мир в сознании автора практически полностью сливается с русским христианским миром, и эти понятия, конечно, связаны, однако христианство (после разделения церкви на ветви христианства – православие) – один из главных признаков русского мира, но не тождественный ему, но эта динамика и четкое наполнение понятия «русский мир» определенными составляющими постепенно прослеживается по мере рассмотрения других текстов русской художественной словесности.
«Послание Симона <…> к Поликарпу» входит в «Киево-Печерский патерик» – сборник, основа которого «была заложена в 20-е годы XIII века и первоначально родилась в виде двух посланий: Владимиро-Суздальского епископа Симона к монаху Киево-Печерского монастыря Поликарпу и Поликарпa к Акиндину, игумену этого же монастыря» [Елагин, Шаланова 2000, 12].
Как известно, поводом для написания «Послания Симона … к Поликарпу» явились действия Поликарпа, которого «не устрашила роль простого монаха, за короткое время ему удалось добиться игуменства сначала в Козьмодемьянском монастыре, затем Дмитровском. Но с игуменством что-то не получилось, и Поликарп вынужден был возвратиться в Киево-Печерский монастырь. Обиженный на весь свет, не желая подчиняться архимандриту Акиндину, недовольный распоряжениями эконома монастыря, он
М.Ч. Ларионова, А.С. Тищенко (Ростов-на-Дону) | Ранние случаи употребления понятия... обращается с письмом к Симону» [Елагин, Шаланова 2000, 13]. Кроме этого, по просьбе Поликарпа к Симону обратилась Анастасия, жена Ростислава Рюриковича, с просьбой назначить Поликарпа на епископство.
Ответ Симона Поликарпу содержит наставления и излагает принципы истинного духовного пути. В этом письме встречается словосочетание «русский мир»: «Пръвый – Леонтий, епископъ Ростовъскый, великий святитель, егоже Богъ прослави нетлѣниемь, и се бысть пръвый престолникъ, егоже невѣрнии много мучивше и бивше, – и се третий гражанинъ бысть Рускаго мира , съ онема варягома вѣнчася от Христа, егоже ради пострада» [Послание… 1997, 360]. Это выражение появляется в контексте, где Симон приводит примеры добросовестных и благочестивых епископов, поставленных из Печерского монастыря. В этом фрагменте Симон дает лаконичную характеристику именно Леонтию, «гражданину <…> Рускаго мира», остальных он просто перечисляет. Леонтий Ростовский – епископ Ростовский и Суздальский, почитаемый Русской православной церковью. Известно, что Леонтий в Ростове отстаивал христианскую веру в одиночестве: «В повествованиях о прижизненных чудесах и первом посмертном чуде Леонтий предстает как борец с язычниками, поражающий неверных или грешного христианина» [Мельник 2020, 8]. По одной из версий, из-за ожесточенной борьбы за христианство святителя Леонтия возненавидели ростовские язычники, которые впоследствии его убили. Однако существуют и другие сведения о смерти епископа, согласно которым Леонтий ушел из жизни в мире. В рассматриваемом послании, как видим, Симон говорит о Леонтии как о погибшем от рук «неверных». В этом небольшом фрагменте текста, посвященном Леонтию, вокруг святителя складывается особый ореол благочестивого христианского служителя, пострадавшего за веру и Христа. Леонтий рассматривается автором послания как образец истинной христианской добродетели, как пример духовного совершенства.
Появление словосочетания «русский мир» неслучайно и примечательно и в этом тексте. Как и в «Слове на обновление…», наряду с конструкцией «русский мир» здесь используется «Русская земля», то есть автор сознательно употребляет такое словосочетание. Это говорит о семантической широте понятия «русский мир» и его цивилизационном значении. Интересно, что Леонтий по происхождению грек, однако он назван «гражданином Рускаго мира», что подтверждает нашу мысль о наднациональности данного понятия: в основе русского мира лежит общность людей и их объединение на основе особых принципов, ценностей, привязанности к Руси, но не сугубо в территориальном или национальном аспектах.
Центральной в послании является тема истинного пути служения Господу. Наставления епископа Симона складываются в целостную картину, показывающую, каким должен быть священнослужитель. Автор послания подчеркивает, что инок должен оставить все мирское ради высшей цели: «Брате! Сѣд в безмолвии, събери си умъ свой и рци к себѣ: “О, убозей ино-че, неси ли мира оставил и по плоти родитель Господа ради?”. Аще же и здѣ, пришед на спасение, не духовнаа твориши, и что ради в чернеческое имя облъкъся еси?» [Послание… 1997, 354]. Высшее назначение черноризца – служение Богу и жизнь в соответствии с духовными христианскими принципами – путь очень непростой, это большая духовная работа: «Въспряни, брате, и попецися мыслено о своей души! Работай Господеви съ страхом и съ всякою смиреною мудростию!» [Послание… 1997, 354]. Епископ уделяет внимание человеческим качествам настоящего священнослужителя: честность – «Не буди лживъ – виною телесною събора церковнаго не отлучайся» [Послание… 1997, 354], смиренность – «Помысли, чадо, и болша сих, како Господь нашь смири себѣ, бывъ послушливъ до смерти своему Отцю: досажаем – не прещаше, слышася “бѣсъ имаши”, по лицю биемь и заушаемь, оплеваемь – не гнѣвашася, но и о распинающих его моляшеся. Тако и нас научилъ есть…» [Послание… 1997, 356], терпимость – «претер-пѣвый до конца – бес труда спасется бо таковый» [Послание… 1997, 356].
Эти признаки складываются в единое целое – православный христианский идеал. Как мы уже отмечали, на этапе формирования русский мир во многом сливается с миром православного христианства: православие – важнейший признак русского мира, но далеко не единственный. Однако в ранних произведениях древнерусской словесности тема русского мира неотделима от христианской темы. Так как в «Послании…» одним из образцов истинного служителя Господу является «гражданин Рускаго мира» Леонтий, а Симон строго выдвигает конкретные требования к священнослужителю, можно провести параллель и отметить, что принципы, на которых, согласно Симону, основывается духовная жизнь, не чужды и русскому миру в целом: честность, смирение, терпимость, превалирование духовного начала.
Кроме этого, в послании идет речь о братстве людей в вере, об их объединении: «Аще ли же толикъ съборъ, боли ста братий съберутся, то къль паче вѣруй, яко ту есть Богъ наш» [Послание… 1997, 356], и в этих словах очевидны зачатки идеи соборности. Соборность – это понятие довольно сложное, не имеющее однозначного толкования: «Соборность принадлежит умопостигаемому образу церкви, и в отношении к церкви эмпирической она есть долженствование. Слово “соборность” непереводимо на иностранные языки. Дух соборности присущ православию» [Бердяев 2016, 199]. Соборность – это то, что не предполагает ни индивидуального уединения, ни замкнутости, это особое состояние духовной жизни в единстве сосуществующих людей, как в церковной жизни, основанное на братстве и любви.
Идея объединения людей на основе веры, православного братства получает развитие под пером Симона. По мысли епископа, только в единстве людей может реализоваться путь спасения, чтобы доказать это, он приводит аллегорический пример: «Овча бо, пребываа въ стадѣ, невреждено пребывает, и отлучившееся – въскорѣ погыбаеть и волком изъядено бывает» [Послание… 1997, 358]. Очевидно, что образы овцы и волка появляются здесь неслучайно: «Волк – один из центральных и наиболее мифологизированных животных персонажей. <…> Определяющим в символике волка является признак “чужой”. Поэтому волк может соотноситься с “чужими”, приходящими извне. <…> Волк нередко воспринимается как нехристь»
[Гура 1995, 411]. В образ волка автором послания вкладывается семантика врага христианства, который может погубить запутавшегося, сошедшего с истинного пути, отделившегося от христианской общности отдельного человека. О невозможности и губительности поведения Поликарпа говорит Симон, который предостерегает инока от гордыни, говоря о высшем назначении христианского служения и покаяния: «Утверждая высокий идеал монашества <…>, он призывает Поликарпа быть достойным этого высокого звания. В первую очередь, осуждается Симоном тенденция гордого черноризца к уединению от братии и противопоставления себя ей» [Конявская 1992, 292].
Местом спасения и успокоения является Печерский монастырь. Он становится особым христианским символом, кладезем мудрости, добродетели, благочестия: «Печерьский бо монастырь море есть и не дръжит в собѣ гнилого ничегоже, но измѣщеть вонь» [Послание… 1997, 358]. С этим пространством связывается мотив христианской благодати, небесного заступничества и покровительства самого Христа – он воспринимается как своего рода модель русского мира: «От того, брате, Печерьскаго монастыря пречистыа Богоматере мнози епископи поставлени быша, якоже от самого Христа, Бога нашего, апостоли въ всю вселенную послани быша, и, яко свѣтила свѣтлаа, освѣтиша всю Рускую землю святымъ крещениемь» [Послание… 1997, 360].
Выводы
Невозможно не провести некоторые литературные параллели между «Словом…» и «Посланием…». В этих памятниках есть общие мотивы: христианская вера как благодать, в связи с этим в обоих произведениях появляется солнечная символика; немаловажным является мотив мученичества – в «Слове…» святой Климент – образ христианского мученика, пострадавшего за веру, в «Послании…» таковым осмысляется Леонтий. Образы святых идеализированы, это яркие образцы истинной христианской жертвенности, страдания за веру и Христа. В обоих текстах центральным местом, о котором идет речь, становится храм: Десятинная церковь в «Слове…» и Печерский монастырь в «Послании…», причем и церковь, и монастырь рассматриваются не просто как христианские обители, а как особые знаки-символы христианского мироощущения. Оба памятника с культовым почитанием святых: в «Слове…» напрямую говорится о почитании святого Климента, в «Послании…» же не акцентируется внимание на прославлении Леонтия, однако известно, что культ этого святого сложился позже – примерно к XV в., когда Леонтий стал один из наиболее почитаемых русских святых.
Наконец, в обоих текстах встречается словосочетание «русский мир», с которым связан особый спектр тем, мотивов и образов. Это словосочетание используется сознательно, имеет значение цивилизационное и связывается с определенными основополагающими принципами и категориями, объединяющими людей. В центре внимания в обоих текстах – христиан- ская вера, неотделимая от понятия «русский мир» в особенности на этапах формирования этого понятия. Проанализированные нами примеры подтверждают устойчивость темы «русского мира» в отечественной литературе и возможность рассматривать русский мир как особое целостное, живое и развивающееся явление.
Список литературы Ранние случаи употребления понятия «русский мир» в древнерусской литературе
- Бегунов Ю.К. Русское Слово о чуде Климента Римского и кирилло-мефоди-евская традиция // Slavia. 1974. № 1. С. 26-46.
- Бердяев Н.А. Русская идея // Бердяев Н.А. Русская идея. Миросозерцание Достоевского. М.: Э, 2016. С. 9-308.
- Гура А.В. Волк // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н.И. Толстого. Т. 1. М.: Международные отношения, 1995. С. 411-418.
- Дугин А.Г. Геополитика России. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2012. 424 с.
- Елагин В.С., Шаланова И.И. Духовный мир Киево-Печерского патерика: учебно-методическое пособие. Новосибирск: Издательство НГПУ, 2000. 240 с.
- Жупник О.Н. Значение святого Климента Римского в становлении христианства на Руси // Архонт. 2021. № 1(22). С. 102-105.
- Карпов А.Ю. «Слово на обновление Десятинной церкви» по списку М.А. Оболенского // Архив русской истории. 1992. № 1. С. 86-111.
- Конявская ЕЛ. Нравственное значение Киево-Печерского патерика в древнерусской культуре XV века // Герменевтика древнерусской литературы / отв. ред. А.Н. Ужанков. Т. 3: X-XVI вв. М.: Типография Министерства культуры СССР, 1992. С. 288-312.
- Костромин К.А. Почитание святых при св. князе Владимире по данным храмостроительства // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Вып. 5: К 80-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова / под ред. А.В. Петрова. СПб.: [б. и.], 2016. С. 143-157.
- Ларионова М.Ч., Тищенко А.С. Тема «русского мира» в древнерусской литературе // Русская старина. 2019. № 10(2). С. 86-94.
- Мельник А.Г. Житие Леонтия Ростовского как источник по истории почитания этого Святого в конце XIV-XV веке // Книжная культура Ярославского края - 2019: сборник статей и материалов. Ярославль: Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова, 2020. С. 5-15.
- Назаренко А.В. «Слово на обновление Десятинной церкви», или к истории почитания святителя Климента Римского в Древней Руси. М.; Брюссель: Conférence Sainte Trinité du Patriarcate de Moscou ASBL, Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2013. 224 с.
- Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М.: Международные отношения, 2003. 536 с.
- Оболенский М.А. О двух древнейших святынях Киева: мощах св. Климента и кресте великой княгини Ольги // Киевлянин. Кн. 3. М.: Университетская типография, 1850. С. 139-150.
- Перова Е.Ю. Тема страдания и мученичества в вероисповедальной традиции русского народа // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2016. № 24(765). С. 109-121.
- Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 1. СПб.: Наука, 1997. С. 62-316.
- Полоскова Т.В., Скринник В.М. Русский мир: мифы и реалии. М.: Московский фонд «Россияне», 2003. 130 с.
- Послание смиреннаго епископа Симона Владимерьскаго и Суздальского к Поликарпу, черноризцю Печерьскому // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 4. СПб.: Наука, 1997. С. 354-362.
- Роменский А.А. «Руский миръ» в древнерусской литературе: исторический контекст и семантика термина // Laurea I. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. Харьков: ООО «НТМТ», 2015. С. 139-142.
- Столяров А.М. Русский мир // Нева. 2004. № 3. URL: https://www.mlit. me/books/russkij-mir-read-11836-1.html?ysclid=l5k3s6h687535110274 (дата обращения: 04.12.2023).
- Тишков В.А. Русский мир: история и география // Русский мир в меняющемся мире / отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2018. С. 13-34.
- Ужанков А.Н. Когда и где было прочитано Иларионом «Слово о законе и благодати» // Герменевтика древнерусской литературы / отв. ред. О.В. Гладкова. Вып. 7. Ч. 1. М.: Нефтяник, 1994. С. 75-106.
- Уханова Е.В. Культ св. Климента, папы римского, в истории византийской и древнерусской церкви IX - 1-й половины XI в. // Annali dell'Istituto Oientale di Napoli. Slavistica. 1998. № 5. С. 505-570.
- Уханова Е.В. Культ св. Климента, папы Римского, как отражение политических концепций Византии и Руси IX-XI вв.: Опыт комплексного источниковедческого анализа: автореф. дис. ... к. историч. н.: 07.00.00, 07.00.09. М., 2000. 27 с.
- Цымбурский ВЛ. Остров Россия. Перспективы российской геополитики // Полис. Политические исследования. 1993. № 5. С. 6-21.
- Чичуров И.С. «Хождение апостола Андрея» в византийской и древнерусской церковно-идеологической традиции // Церковь, общество и государство в феодальной России: сборник статей / отв. ред. А.И. Клибанов. М.: Наука, 1990. С. 7-23.