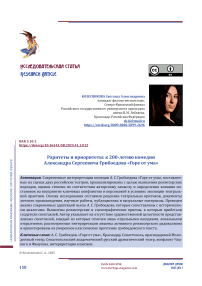Раритеты и приоритеты: к 200-летию комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»
Автор: Колесникова С.А.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Гуманитарная панорама: обзоры, критика, эссе
Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.
Бесплатный доступ
Современные интерпретации комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», поставленные на сценах двух российских театров, проанализированы с целью выявления режиссерских подходов, оценки степени их соответствия авторскому замыслу и определения влияния постановок на восприятие ключевых конфликтов и персонажей в условиях эволюции театральной практики. Основу исследования составили рецензии театральных критиков, документы личного происхождения, научные работы, публицистика и визуальные материалы. Проведен анализ современных адаптаций пьесы А. С. Грибоедова, которые сопоставлены с историческими аналогами. Выявлены режиссерские и сценографические приемы, к которым прибегали создатели спектаклей. Автор указывает на отсутствие художественной целостности представленных спектаклей, каждый из которых отмечен лишь отдельными находками, локальными открытиями; рассмотренные интерпретации лишены активного режиссерского радикализма и ориентированы на умеренное классическое прочтение грибоедовского текста.
А. С. Грибоедов, «Горе от ума», Краснодар, Севастополь, краснодарский Молодежный театр, Севастопольский академический русский драматический театр, конфликт Чацкого и Фамусова, интерпретация классики
Короткий адрес: https://sciup.org/170209425
IDR: 170209425 | DOI: 10.36343/SB.2025.41.1.012
Текст научной статьи Раритеты и приоритеты: к 200-летию комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»
Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» уже несколько веков является текстом-«зер-калом» русской идентичности и продолжает оставаться полем для рефлексии над ключевыми противоречиями российской действительности. Классика даже сейчас, в условиях вызовов нашего времени, остается стабилизатором культурной памяти, связывая «фаму-совский особняк» с актуальными вопросами общественной и культурной жизни. При этом сохранение пьесой статуса «дискуссионной» подтверждает ее роль как платформы для диалога поколений: молодежные театры через грибоедовский текст исследуют проблему социального одиночества, а для академических подмостков актуальны вопросы, связанные с институтом семьи. Театральная сцена становится площадкой, на которой моделируется диалектическое взаимодействие традиции и новации, являющееся неотъемлемым атрибутом развития искусства и общества. Региональный разрез данной темы представляется важным, поскольку именно благодаря научному анализу театральных практик, складывающихся на микроуровне, можно проследить механизмы влияния классических произведений на формирование культурного кода в условиях поиска баланса между глобальными трендами и национальной традицией.
Изучение сценической судьбы «Горя от ума» имеет давнюю историю, восходящую еще к полемике А. В. Суворина [10] и М. О. Меньшикова [8], которые заложили основы анализа конфликта Чацкого и Фамусова как столкновения «века нынешнего» с «веком минувшим». В советский период акцент сместился на идеологическую интерпретацию: И.Л.Вишневская [2] и Г.Н.Бояджиев [1] рассматривали пьесу через призму классовой борьбы, а спектакли Малого театра (М. И. Царев) и Большого драматического театра (Г.А.Товстоногов) трактовались как манифесты «прогрессивного гуманизма». Эксперименты авангарда (Вс. Мейерхольд, Р. Виктюк) и их критическое осмысление (Д. Тальников [11]) раскрыли потенциал пьесы как материала для формальных новаций, однако эти работы фокусировались на режиссерском бунте, а не на диалоге с авторским замыслом. Архивные исследования Л. М. Фрейдкиной [12]
и С. Н. Дурылина [6] восстановили историю ключевых постановок Московского художественного театра и Малого театра, но, к сожалению, ограничились хронологическими рамками первой половины ХХ в.
Эволюция литературоведческих подходов была систематизирована В. М. Марковичем [7], выделившим ключевые этапы рецепции: от романтизации Чацкого до постструктуралистской деконструкции его образа. Современные авторы (С. А. Колесникова [4] [5] и С. Н. Дмитриев [3]) анализируют отдельные аспекты (например, музыкальность текста) и исследуют географию современных постановок, не углубляясь в их концептуальную специфику.
При всем многообразии существующих исследований остается неосуществленным комплексный анализ современных сценических интерпретаций «Горя от ума» в контексте цифровой эпохи и культурной турбулентности 2020-х гг. Предшественники не рассматривали, как в современных постановках преломляется кризис идентичности в условиях нарастающих социальных вызовов и как региональные театры формируют модели диалога с классикой на фоне актуальных эстетических трендов. Представляется, что указанные аспекты нуждаются в тщательном рассмотрении.
В связи с этим целью автора стал анализ современных сценических интерпретаций комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в аспекте выявления режиссерских подходов, оценки их соответствия авторскому замыслу и влияния этих интерпретаций на восприятие ключевых конфликтов и персонажей пьесы в условиях эволюции театральной практики.
В основу анализа легли ключевые сценические интерпретации «Горя от ума» конца ХХ - начала XXI в., включая спектакли Краснодарского академического театра драмы имени М.Горького (2021), краснодарского Молодежного театра (2024), Севастопольского академического театра имени А. В. Луначарского (2024), а также этапные постановки Малого театра (1976, 2000), Большого драматического театра (1962) и экспериментальные версии Вс. Мейерхольда (1928) и Р. Виктюка (1983). Комплекс непосредственных материалов ис-
ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ
HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS
следования составили рецензии театральных критиков, источники личного происхождения и документация (письма М. Н. Ермоловой [6], протоколы репетиций МХТ 1906 г., приведенные в книге «Горе от ума» на сцене Московского Художественного театра: Опыт четырех редакций 1906, 1914, 1925, 1938 гг.» [12], современные научные работы [4] [5], публицистические статьи [3] и визуальные документы (эскизы декораций, фотофиксация спектаклей). Особое внимание уделено полемике вокруг «стержневого конфликта» пьесы, начиная с трудов А. В. Суворина [10] и М. О. Меньшикова [8] и заканчивая актуальными современными исследованиями (2020-х гг.) [3] [4] [5], что позволило проследить диалектику восприятия грибоедовского текста. Материалы охватывают период с 1906 по 2024 гг. и отражают баланс «живой картины» грибоедовских типов между психологическим реализмом и механистической стилизацией.
В исследовании использован синтез системно-исторического и сравнительнотипологического методов, позволивший проследить эволюцию сценических интерпретаций «Горя от ума» в контексте социальнополитических и социокультурных трансформаций (от советского периода до современности). Перспективным стало использование структурно-семантического анализа текста пьесы и его режиссерских адаптаций, такой анализ выявил особенности трансформации «стержневого конфликта» Чацкого и Фамусова с учетом преобладающих на тот или иной момент эстетических парадигм. Иконографический метод применялся для «расшифровки» визуальных кодов постановок (сценография, костюмы, свет), а приемы рецептивной критики помогли реконструировать динамику восприятия пьесы публикой и театроведами.
На первом этапе работы был предпринят анализ источников по истории театра и критических рецензий, который позволил проследить историю интерпретаций «Горя от ума» на протяжении более чем сотни лет. Благодаря сопоставлению современных постановок бессмертной пьесы А. С. Грибоедова, созданных театральными режиссерами Краснодара и Севастополя, с историческими аналогами был выявлен сдвиг от идеологическо- го противостояния «двух веков» к глубокой психологизации персонажей. Установление этого тренда потребовало детального анализа сценических адаптаций грибоедовского текста. Исследование визуальных элементов постановок позволило более рельефно выявить режиссерские идеи. Попутно были установлены интертекстуальные связи с классической литературой (Н. В. Гоголь, А. Н. Островский), проявляющиеся в деталях костюмов и характеристиках второстепенных героев.
Работа раскрывает механизмы трансформации классического текста в условиях смены культурных парадигм и тем самым вносит вклад в осмысление общей динамики взаимодействия канона и деконструкции. Кроме того, анализ режиссерских идей и решений отражает одну из сторон современного театра, становящегося своеобразной лабораторией рецепции, в которой посредством новых эстетических вызовов проверяются границы интерпретации литературных произведений. Таким образом, работа встраивается в широкий контекст дискуссий о функциях классики в цифровую эпоху, о традиции и инновации, а также о сохранении идентичности текста при множественности его интерпретаций. Данный круг проблем, как кажется, определяет сегодня развитие не только театроведения, но и гуманитарного знания в целом.
* * *
Сценическая судьба комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова в русском театре отчетливо выразилась к концу ХХ - началу XXI в. в двух эстетических направлениях: ревностно консервативном и радикальном. Текст великой пьесы, знакомой почти наизусть, работает как великая провокация, побуждая театры искать приемы удивления и эпатажа или наоборот - сопротивляться режиссерскому произволу и продолжать пасти «священную корову» на хрестоматийном поле. И одно, и второе не работает автоматически, по воле стиха и авторского плана, но требует целостности, а значит все же некоего постановочного решения. Каким бы оно ни было, пусть и традиционным, оно должно быть. Репутация «Горя от ума» как дискуссионной пьесы летит впереди любой постановки и порождает ожидания.
Тем интересней третий путь, давший о себе знать в последнее время. Имеются в виду постановки «Горя от ума», занимающие как бы серединное положение: лишенные радикализма (сильно надоел, не работает), ориентированные на умеренное классическое прочтение текста. Можно даже предположить, что в том и состоит их идея - дать пьесе течь по воле автора, и якобы она сама себя выявит. И она действительно выявляет, почти спонтанно, ибо резонанс текста по-прежнему удивителен, от него никуда не деться. И артисты, и зрители так или иначе истолковывают сочинение. Таким образом, даже в отсутствие ярко выраженной режиссерской концептуальности, спектакли «нарабатывают», формируют ее по ходу действия. Премьеры в Краснодарском академическом театре драмы имени М.Горького (2021), краснодарском Молодежном театре (2024) и Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В.Луначарского (2024) вполне описывают эту тенденцию.
Главная особенность постановки Молодежного театра - иллюзия самодостаточности «Горя от ума», к которой мы склоняемся, не находя последовательной постановочной концепции или не ощущая ее внятного выражения. Режиссер Павел Пронин1, преодолев возраст Чацкого, видит пьесу не под углом зрения героя-бунтаря, но, наоборот, в его сатирической обрисовке; а также панорамируя не одну выбранную линию или сектор конфликта, но по возможности драматическую структуру в целом, которая, будучи познанной действенным и психологическим анализом, сама зазвучит и раздаст свои богатства. Режиссер вроде бы не собирается никого удивлять. Но, идя по классическому тексту, вдруг выходит на внезапные трактовки некоторых ролей, закономерно преображая их внешне и внутренне относительно некоего собирательного хрестоматийного канона. Он, безусловно, есть в исполнительской традиции «Горя от ума», насчитывающей без малого два века. В этом смысле режиссер близок ме- тоду Сергея Женовача, чья постановка «Горе от ума» в Малом театре (2000) не казалась ни на премьере, ни сейчас, по прошествии почти четверти века, остро концептуальной; режиссерский курсив любимой мысли, энергичный прием в ней отсутствуют или намеренно стерты. Но спектакль по мере саморазверты-вания указывает на явное обновление восприятия пьесы и в первую очередь через открытие в ней самой непознанных поворотов смысла, интонаций и отношений, при этом в нее не привносятся сторонние концепты или, как часто бывает, непроработанные режиссерски комплексы.
Художник-постановщик Ирина Сид и художник по свету Евгений Лисицын интерьеры фамусовского особняка, с которыми в пьесе связывается «дым Отечества», вписали в мобильное и легко трансформируемое пространство Молодежного театра. По бокам игровой площадки - две массивные двери для входа и выхода зрителей в антракте, будто мы не гости, а здешние обитатели. (Почему бы и нет, в этом хрестоматийном тексте, кажется, давно все свои, с детства бывали здесь.) Две комнаты с противоположных сторон - ампирные интерьеры с покушениями на изысканность и порядок; люстра, зеркала в проемах стен. Ничего русского, допустим, изразцовой печи, у которой согревался бы вбежавший с мороза герой. Вместо нее в центре камин с солидным порталом и лепниной, его бы должны разжигать поутру, чтобы струился «дым Отечества». В спектакле МХТ Вл. И. Немировича-Данченко в 1906 г. среди множества второстепенных фигур был истопник с дровами, разжигал печь, из нее раздавался треск дров, а потом отблески пламени мелькали по стенам [12, с. 21–22]. Но нет, здесь камин, скорее, знак достатка и достоинства хозяев. На нем замечаем старинные часы (бронза, литье), их роль в постановке опущена, почти незаметна, но мы-то хорошо знаем, как они важны - мелодично бьют пробуждение дома к судьбоносному дню, отмечают начало бала и в целом знаменуют один из трех классицистских законов драмы - единство времени. Кушетка для вздохов и бесед, накрытые белыми чехлами кресла. Красные дорожки-ковры слуги раскручивают к нам в зал, начиная и заканчивая действие. И этот
ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ
HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS
дом на европейский манер заполнят одетые кто во что горазд гости. Описать дамские платья, материалы и фасоны не решусь, «слаб язык» - и произойдет смешение «французского с нижегородским». Грибоедовская метафора работает впрямую, отсылая коллективный гардероб фамусовского круга к гоголевским страницам об уездных барышнях или купеческим пьесам А. Н. Островского. Хоть и агрессивно, но мысль доведена до аудитории.
Некоторые персонажи напрямую подсказаны культурной памятью. Прежде всех Фамусов Анатолия Дробязко, воссозданный по образцам психологической школы актерского мастерства. Он искренно верит в устои и философию его Москвы. В нем нет ни тени лицемерия: Лизу хватает от переизбытка чувств (Анастасия Ковьярова играет вполне знакомую озорную и хитроумную служанку); Петрушу (Егор Глазов) бранит от того же; речей Чацкого слышать не может, смотрит на него, то сурово, то с сожалением, а то и как на сумасшедшего, почти предсказывая развитие событий вокруг него. И все по-человечески, без злобы. Ему, наоборот, присущ комизм: в сцене с неглупым полковником Скалозубом заводит «речь об генеральше», намекая на дочь-невесту, получается смешно, потому что врать не умеет. Алексей Алексеев играет прекрасно знающего жизнь и нравы служаку, его Скалозуб обращается к финалу серым кардиналом, молчаливо наблюдающим за происходящим. Мы верим Фамусову и когда он сокрушается по Софье, всплескивая руками, сравнивая ее с матерью: «Чуть врознь: - уж где-нибудь с мужчиной!». Наконец, мы волнуемся за ближайшее будущее Фамусова: «что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!» Словом, классическое прочтение роли с особым выявлением в ней живых, искренних черт и в полном соответствии с А. С. Грибоедовым.
Ведь Фамусова и Чацкого роднит их откровенность, с какой они манифестируют свету каждый свою правду. Это мало осознается в научном комментировании и в сценической практике. На Фамусова первого навешивают «прошедшего житья подлейшие черты», так предписывает критическая традиция, и она послушно воспринята русской сценой, в ряде случаев ужесточена, сгущена или, наоборот, ослаблена, зависит от социально-политических убеждений интерпретаторов. Но важно, что оба - и Фамусов, и его воспитанник Чацкий -не носят маски и не живут двойной жизнью, в отличие от Молчалина и Софьи (позже Натальи Дмитриевны и Платона Михайловича Горичей). Диалог Фамусова и Чацкого с самого начала идет с открытым забралом, в нем проявлена жизненная позиция - у первого ее можно назвать житейской мудростью и политическим опытом, у второго - гражданским беспокойством и неопытностью молодости.
Но вот, однако, как бывает, если один из оппонентов решен определенно и проведен, как у А. Дробязко, последовательно, а другой - практически выключен из равноправного диалога заданной системы координат. Владислав Гоголев представил Чацкого сумасшедшим трибуном, за которым не пойдет не то что фамусовское общество, но и мы с вами - прогрессивные нонконформисты. Текст роли с первой летящей реплики «Чуть свет - уж на ногах! / и я у ваших ног» до сакраментальной «Карету мне, карету!» звучит у героя патетично и нервно, на одной высокой больной ноте. Да, бывало, смещали эмоциональный настрой героя на грань душевной болезни, доводили до края. В Ленинградском большом драматическом театре (1962) Чацкий-Юрский падал навзничь в обморок и его приходилось поднимать и, поддерживая, вести к карете (так и хочется сказать - «Скорой помощи»). Но все же герой оказывался близок к нервному срыву в результате происходящих с ними событий, подводивших к такому финалу. Прежде длилось некое действие.
Вопрос о душевной болезни Чацкого давно не табуирован в литературоведении и уж тем более в сценической практике. Процесс историчен, берет начало в спектакле «Горе уму» Вс. Мейерхольда (1928), где Эраст Гарин играл пока еще плохо социализированного и отчасти блаженного молодого человека. Это ярко отразилось в современной критике, например в статье Д. Тальникова: «С него снимают тридцать одежек, тулупчиков, телогреек, кофточек всяких, из которых, наконец, вылетает на сцену узкогрудый мальчик-“-фитюлька” (которому играть Хлестакова или
Гулячкина из “Мандата”), в цветной какой-то, подпоясанной шнурком косоворотке, вдобавок, кажется, впущенной в брюки, длинные с раструбом,- словно школяр, приехавший домой на побывку. Приятно потягивается с дороги, расправляет члены, пробует рояль, подает Лизе привезенный гостинец в платочке, за что она целует его в руку, потом приносят чай; попил чайку, подзакусил (по-настоящему), что-то невнятно сказал (рот полон еды), сейчас же опять за рояль; подвижен, как мальчик, да он и есть мальчик; поиграл чуточку, взял два-три аккорда - и сейчас же бегом на авансцену, к публике или к ширмам, за которыми почему-то нашла нужным переодеваться мей-ерхольдовская Софья» [11, с. 252–253].
Прецедент оставался единственным в своем роде на протяжении полувека. Сам Вс.Мейерхольд уже в 1935 г., во второй редакции спектакля «исправился», восстановил каноническое название «Горе от ума» и героическую репутацию Чацкого, которого стал играть молодой Михаил Царев - герой из героев русской сцены. И только в начале 1960-х тема явного безумия начала возвращаться то тут, то там и в конце концов отвоевала себе место на подмостках. Душевная болезнь выдвигалась на первый план и, по мысли режиссеров, многое объясняла. Поврежденными в уме (или на грани) или неадекватными представали герои у Романа Виктюка (1983, Минский театр оперетты), Юрия Любимова (2007, Московский театр драмы и комедии на Таганке), Игоря Селина (2009, Ярославский театре драмы им. Ф. Волкова); крайний, доведенный до предела случай, уже клинический демонстрировал Римас Туминас (2007, Московский театр «Современник»). Во всех этих и не названных случаях чем дальше, тем больше выявлялась не столько драма героя, сколько узость режиссерского мышления. Их мотивировки были не сказать русофобскими, но прежде всего пошлыми, ибо не интересно театру и залу два часа смотреть на больного человека. Пропадала Драма, пропадал великий пафос человека, пусть смешного, нелепого, но вступившегося за истину сознательно, а не из-за помешательства. Обличил, как мог, на пределе сил неправедную жизнь и пропал в ночи. Но не пропал во времени и простран- стве русской культуры, русского театра, русского сознания.
Словом, когда мы вновь видим реинкарнацию этого заблуждения в современном спектакле у еще более молодого режиссера и актера нового поколения, мы даже не сердимся на них, мы их жалеем, сочувствуем как догоняющим вчерашний день. Сумасшествие на драматической сцене, как сказано еще в «Гамлете», должно быть последовательно. Это тоже процесс, движение Чацкого шаг за шагом к финалу, закрепившемуся в дефинитивном (то есть базовом) варианте, существующем с 1938 г.,- непревзойденной до сих пор постановки Малого театра. Нынешний краснодарский истероидный радикал Чацкий ни смешон, ни грустен, его не жалко, он декламирует великие строки, на которые сама откликается душа зала, громко, цветисто, но без проживания. Как нейросеть, раздражающая отсутствием живых эмоций, этот Чацкий толкует о низкопоклонстве, национальной гордости, душе, нравах, идеалах… Все напрасно. Он закреплен на одной монотонной ноте, не развивается в своей лирической драме познания жизни и любви, не расширяется до обобщений, делающих эту вещь бессрочно актуальной.
Можно принять трактовку Евгением Парафиловым Молчалина: в его исполнении он намеренно холоден и беден душой. Но ему можно быть роботом с искусственным интеллектом, он свободен от духовных задач, пред ним лишь практические. Но не главному герою, который здесь, как назло, будто кукла заведенная, твердит пламенные монологи, так же недостоверно глаголет о своей любви к Софье. А он ведь из-за нее приехал сюда, а не обличать. краснодарский Молодежный театр не первый впал в историческое заблуждение, идущее от советского литературоведения первой половины прошлого века. Там сказано о декабристской миссии Чацкого как борца с косностью московского быта, подлостью нравов, презревших просвещение, топчущих человеческое достоинство, не слыхавших о правах личности и прочее. Все так. Только критика Чацкого вырастает постепенно, по мере необходимости. Он никогда не начинает первым, его всегда вынуждают, провоцируют разворачивать свою идеологию по случаю. Этот факт
ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ
HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS
редко берется в расчет - Чацкого, будто с цепи сорвавшегося, выпускают на сцену сразу для того, чтобы натравить на оппонентов. Получается заданность, теряется пластичность новаторского образа. Да и стираются авторские намерения. Убедительно вступился за Чацкого еще в 1886 г. А. В. Суворин: «Он ни разу не был груб, ни разу не выходил из роли умного человека; он свободно, не стесняясь, говорил только с Софьей и Фамусовым, а не проповедывал всем и каждому зря, без нужды, чтоб только раздражать всех и поумничать» [10, с. 172].
Возникший кризис восприятия такого Чацкого в дальнейшем в спектакле не снимается. «Я езжу к женщинам, да только не за этим»,- говорит он Молчалину в уже привычной для себя, ничего не значащей патетической манере. При этом они похожи внешне и типологически, оба одеты в намеренно одинаковые, чудовищно пошлые блестящие фраки и короткие брюки,- ну, чисто гоголевская пара Бобчинский и Добчинский. Кто поверит произносимым словам? Разве Наталья Дмитриевна Горич, которой Чацкий недвусмысленно целует руки, и мы видим, что пар-ниша в коротких штанишках, производящий патетический шум, оказывается, в прошлом ловелас, «а-ля Пушкин», чуть ли не уставший от общества Онегин. Отдадим должное актрисе Олесе Никифоровой - она правдоподобно намекает, будто не замечая клоунского костюма Чацкого, что ее героиня в прошлом имела связь с ним, да и сейчас не прочь вернуть прошлое, несмотря на замужество.
Итак, мы видим несходство эстетических решений по линии главного противостояния пьесы Чацкий - Фамусов, что лишает спектакль смысловой целостности, а нас - возможности проследить генеральный конфликт «Горе от ума» на интеллектуальном уровне. Вопрос оппонирования в пьесе не так хресто-матиен, как кажется. Со временем позиции противоборствующих сторон претерпели определенные аберрации и сегодня не так однозначны. Раньше, в школьной традиции изучения произведения можно было счесть Фамусова ретроградом, неучем, врагом просвещения, а воспитанного им юношу Чацкого - носителем благородной истины. Напомним, что Анна Алексеевна и Андрей Ильич ушли рано, и их сынка взял к себе Фамусов, и воспитал-то юношу хорошо: «он малый с головой / И славно пишет, переводит...». Под сенью охранительного домостроя в общем взрос интеллектуал, социально зоркий, с живым умом и не растраченными нравственными принципами, что и явил по возвращении сюда прежде собственного дома после трех лет отсутствия. Словом, их конфликт не так хресто-матиен и мог быть разработан современной сценой на равных. В их диалоге сопоставлены вневременные модели упорядоченного (коренного) и хаотического (взрывного) миропонимания. Психологический спор двух лиц осложнен странной, диалектической антиномией «притяжение-отталкивание». Не зря русская сцена, исследуя этот спор, приходила иногда к пониманию слабости позиций Чацкого и силы позиций Фамусова. Не от того, что последний является носителем правды, а от того, что его молодой оппонент не понимает пока: изменения социальной жизни, поворот России к лучшей доле - крайне длительный исторический процесс. На него уйдут десятилетия. Военное поколение русских аристократов, побывавших в Париже после победы в Отечественной войне 1812 года, возвратились домой с полным убеждением, что крепостное право должно быть отменено и немедленно! Мало кто из них увидит эту программу реализованной только через 50 лет, в 1861 г. Трагизм невозможности социального деяния еще долгое будет довлеть над умными, нравственными людьми России. Показательна заключительная фраза рецензии Инны Вишневской на «Горе от ума» в Малом театре (1976), одну из исторически прозорливых постановок, которая как раз здраво, без публицистических иллюзий трактовала противостояние центральных героев: «Побеждает Фамусов - победит Чацкий.». Критик считала новаторством Михаила Царева-Фамусова и спектакля дать всех персонажей комедии без разделения на отрицательных и положительных. Тем самым была прочувствована грибоедовская интонация - не классицист-ская, а реалистическая [2, с. 33–34].
В рассматриваемом спектакле изначально снят центральный конфликт пьесы, переведен из мировоззренческого в игровой план.
Сталкиваются не позиции, а две манеры актерской игры.
Но в пьесе есть третья сила - самостоятельная, хоть и связанная с хозяином положения Фамусовым, более того, довлеющая над ним. «Фамусовское общество» как подкрепление ему драматург выводит в третьем действии, что осложняет позиции Чацкого, но делает его драму масштабнее, она становится социально-политической. «Горе от ума» некоторые современники А. С. Грибоедова считали политическим сочинением. Как раз из-за третьего действия, где материализованы пороки общества, обладающего немалой силой при своих, казалось, дряхлости и пародийности. Совершенно логично, что сценическое воссоздание фамусовского общества вылилось в одну из постановочных задач. От того, как она решалась, зависела степень конфликтного напряжения всей пьесы и ее итоги. Разнообразие сценических подходов резко противостояло довольно однородной и не меняющейся позиции литературоведения, там не было особых разногласий в оценках гостей Фамусова - от яркой фигуры Хлестовой до последней из шести княжон Тугоуховских, наделенной двумя короткими репликами.
Общее понимание мрачной коллективной силы общественного мнения, реально влияющей на общественное устройство, продвижение и успех, имело в каждом театре свое выражение. В нем, собственно, и прочитывалась степень его опасности, как и образный взгляд на правящий класс. В упомянутом выше спектакле Г.А.Товстоногова в ленинградском Большом драматическом театре имени М. Горького одетые единообразно и одноцветно гости напомнили критику Григорию Бояджиеву хищное сообщество ящеров по зеленовато-золотистому и желтоватокоричневому цвету их костюмов: «В какой бешеный ажиотаж впадает вся эта светская чернь против Чацкого!» [1, с. 182].
В Московском театре сатиры в постановке В.Н.Плучека (1976) живые люди заменялись манекенами и могли кружиться на шарнирах. В Минском театре оперетты у Р. Г. Виктюка сообщество было представлено не столько враждебным, сколько больным -на Чацкого наезжали из всех точек сцены люди в инвалидных колясках и окружали, буквально теснили, радостно предчувствуя добычу: «бал сплоченного большинства, безумных людей, игравших свою музыку» [5, с. 11]. В Ярославском драматическом театре имени Ф. Волкова в режиссуре И. Селина (2009) отклонений никаких не было, наоборот, здоровые, богатые, хорошо одетые люди, некоторые дамы в мехах контрастировали с жалким маргиналом, чуть ли не циркачом, затесавшимся по недосмотру сюда. Всегда в реалистическом ключе Малый театр подавал третье действие, почитая его особо, оно давало труппе собираться вместе, как в родной дом. Для своего последнего творческого 50-летнего юбилея Мария Николаевна Ермолова (в письме к А. И. Южину) просила поставить третье действие «Горе от ума»: «Я хочу только одного, чтобы в этот вечер все мои товарищи были со мной вместе. …Таким образом я не буду чувствовать себя отчужденной от всех, буду чувствовать приехавшей, как и все, для нашего общего дела, а не для выставки» [6, с. 241–242]. Так и провели бал, а его героиней стала Хлестова-Ермолова (2 мая 1920 г.). Подробно описана в литературе сцена распространения сплетни о Чацком в спектакле Вс. Мейерхольда (1928), действенно-пластическая композиция: гости, тесно прижавшись друг к другу за длинным, фронтально поставленным столом, передают по цепочке новость о сумасшествии, а при виде Чацкого еще теснее сплачиваются в единый, здоровый, сытый организм, он же слаженный биомеханизм: «Умение жить со смаком, пользоваться жизнью - вот, что старательно и настойчиво подчеркивал Мейерхольд, разглядывая грибоедовскую кунсткамеру» [9, с. 382].
Из богатства обличительных вариантов (уже бывших в ходу и еще не использованных) режиссер Павел Пронин необъяснимо выбирает тот, что представляет массу московских тетушек карикатурно и как малочисленное, пестрое и нестройное провинциальное болото. Похоже, искался контраст ампиру фамусов-ской гостиной. Никак не сборище «священных чудовищ», а больше веселых, придурковатых, слегка «поехавших» старых дев, «старух зловещих, стариков, / Дряхлеющих над выдумками, вздором^». Их дефиле открывает спектакль и также его закольцовывает. В первой
ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ
HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS
проходке поразил штрих режиссера и артиста Дмитрия Морщакова: глухой к внешнему миру князь Тугоуховский, еле передвигая ногами, вдруг поднимает голову, заслышав третий звонок, и смотрит вверх многозначительно - старый князь в таком возрасте, что ему внятны уже призывы иных миров, и он остается равнодушен к развернувшимся маневрам в гостиной.
Выше мы коснулись эстетики нелепых нарядов, намеренно сниженных. В них и являются княгиня Тугоуховская (Елена Дементьева), бабушка Хрюмина (Татьяна Епифанцева) с внучкой-оторвой (Еленой Есиповой), которая и коня на скаку остановит, и дверь ногой откроет, и шампанским зальется, только б обскакать шестерых княжон Тугоуховских, разряженных с отчаяньем незамужних барышень. Нам говорят художник и режиссер, что это общество мало того, что полоумно, так еще и лишено стиля, а это уж совсем конченное общество. Будто другие здесь какой-то стиль имеют.
Мужчины слабы и занимают в московской пирамиде подчиненное место - подле властной Хлестовой (Светлана Кухарь). Таковы Горич (Алексей Замко), попугаеобразный Загорецкий (Андрей Новопашин) и даже бом-жеватого и безумного вида Репетилов (Алексей Суханов), послушно встраивающийся в ряд «прелестных» грибоедовских мужей.
Пестро разряженную толпу перекрыл комедийным дарованием то ли Филька, то ли Фомка (или оба): он держал шампанское на подносе с думой о бесправной доле и опускал глаза при мысли о нездоровой атмосфере, царящей у господ. По аналогии с гоголевскими «мертвыми душами» самыми живыми и ментально здоровыми вышли образы крепостных Петруши (Егор Глазов), Фильки (Владислав Русских) и Фомки (Александр Пастухов). Их роли расширены до участия в действии душераздирающей сцены ночного разоблачения после разъезда гостей. На крик Фамусова «Сюда! За мной! Скорей! Скорей / Свечей побольше, фонарей! / Где домовые?..» они сбегаются к нему с фонарями, и на всякий случай один из них преданно размахивает топором, вдруг, и правда, грабитель в доме. Молчалин быстро ретируется, а Чацкий продолжает об- личать его вдогонку через закрытую дверь: «Кто этот вам любезный человек?». Но перед дверью уже стоит бедный, ни в чем не виноватый Филька с топором, он-то тут при чем? А Чацкий свое, продолжая указывать в его сторону. И все наблюдавшие за эксцессом с интересом переключаются на слугу и тыкают в несчастного, еще более запутывая интригу. Хорошо найдено, смешно. Вспомнили, что «Горе от ума» - комедия. Усилиями интерпретаторов весь ХХ век из нее изымался смех, и сейчас этот процесс продолжается. Ее сценические определения - драма, трагикомедия, трагический гротеск… Что угодно, только не первичный авторский жанровый признак. Проблематиза-ция комедии меняет ее исконные настройки, это отдельная актуальная тема.
Договорим судьбу Софьи, загадочной фигуры русской драматургии в краснодарском спектакле. Особых загадок нет. Зритель ее жалеет - не видно достойных женихов. Она у Виктории Кузнецовой и проницательна, и умна, и честна, идет за пьесой, что приятно, то есть страдает от своего ума, сыгравшего с ней злую шутку. Будучи смелой от природы, не может поверить, что трусливые и расчетливые люди носят маски, делает ложные, умозрительные выводы о недостаточно любившем ее Чацком и тихом счастье с Молчали-ным. Вполне трактовка, но несколько пассивная. Женихи - проблематика русского водевиля. В русской же высокой комедии надлежит искать самобытность натуры, равной по интеллекту герою. Первая серьезная драма (или срыв) Софьи что-то знаменует в будущем, может быть, кардинально переворачивает. Не случайно вокруг нее, как и вокруг Чацкого, скрещивались писательские и ученые мнения, рождались тяжелые обвинения, но возникала и защита [8] [13].
Вот, собственно, итоги спектакля: в нем очевидны отдельные усилия, забавные штрихи и интонационные находки, но добросовестность еще не рождает целостного впечатления. На афише спектакля Чацкий будто нарисован нейросетью - современно, молодежно, даже концептуально, допустим, так: живые смыслы и волнения человеческие стерты в пагубном обществе и превращены в бездушную механику. Если мы и правильно считали намерения театра, вряд ли это адекватно «Горю от ума» Александра Грибоедова, пьесе куда как более объемной, стереоскопичной и будто подключенной к источнику восполняемой уже 200 лет духовной энергии и интеллекта.
Севастопольский драматический театр и режиссер Григорий Лифанов2 также чужды нигилизма в обращении с пьесой и не собираются наносить ей урон, вдобавок к «мильону терзаний» уже нанесенных. Их привлекла творческая радость от диалога с поэтом и демонстрация собственного артистизма на материале этой божественной комедии. Общественно-политическое и индивидуально-психологическое содержание сочинения А. С. Грибоедова непримиримо и конфликтно противопоставляемые, порой, в театрах, здесь сосуществуют гармонично и без швов. Хороший признак, шаг к целостности понимания без нарочитого выделения доминирующего смысла. Удалась разноплановость сценического повествования с мягким чередованием тем и переходов внимания от одного характера к другому.
Лиза пробуждается в объятиях Петруши; возможные избранники Софьи Молчалин и Скалозуб - рослые красавцы, не отягощенные обличительно-критической традицией их воплощения; приятный молодой человек Чацкий (Петр Харченко) приехал ради дочери хозяина, она его интересует в первую очередь. Все мужчины, включая Петрушу, Загорецко-го и отчасти Репетилова, одеты одинаково -в тактические черные брюки, заправленные в высокие ботинки, бравые здоровые молодцы без особого интеллекта, но биологически актуальные. Наталья Дмитриевна Горич взволнована приездом Чацкого, мы понимаем, что у этой пары было прошлое. Наконец, Хлестова чувствительна к прикосновениям Молчали-на (не только к ее шпицу), ее наставительная остроумная реплика Репетилову «Пора перебеситься» обращается к самой себе и означает: хватит, бежать отсюда, пока не увлеклась…
Все это - первый план спектакля, проработанный не поверхностно, с юмором и тактом.
Есть второй (менее убедительный): из зала периодически некто активный гражданин из первых рядов, приближенных к сцене, или подсказывает сценическому Чацкому, или договаривает за него, или повторяет его слова, относящиеся, так сказать, к гражданской программе грибоедовского героя. В финале подсаженный переместился на сцену, а сценический - занял его место в ряду. Двойник Чацкого как бы из нашего времени и сценический образ за рампой на миг встретятся, меняясь местами. Новизна приема очевидна. Пьеса как бы расслаивается визуально на половинки, не желая терять ни одну и удерживая прямое общение с нашим современником, вспоминающим крылатые фразы из комедии. Контакт налажен впрямую, поверх гривуазного сюжета на подмостках. Удивительно, что в этой конструкции почти совсем пропал Фамусов, обошлись как бы без него.
И, наконец, третий план спектакля, выраженный зримым постановочным, сценографическим приемом: обыгрываемое на авансцене пространство дома откроется вглубь, и мы увидим там массивные входные двери, а когда растворятся и они - впуская и выпуская людей - за ними распахнется свободное ночное пространство, почти космическая мгла, там завывает ветер, оттуда задувает снегом прихожую… В бесконечности пропадут все по очереди уезжающие с бала гости, пока не останется один Чацкий. Критик Ю. Юзов-ский когда-то писал о грибоедовском ветре, который просквозил дом, имея в виду беспокойство, стихийность смелого, свободного порыва чувства и мысли; от него не укрыться никому, уж если он загулял в умах людей, проник в их натопленные, уютные жилища. Что-то похожее демонстрировали в Севастополе художник Наталья Лось и режиссер Григорий Лифанов. Концепция неожиданно выразила себя в самом финале, буквально в последних минутах до того спокойного спектакля. Нужно ли нам искать ей формальное определение? Здесь явно случай слияния идеологической и эстетической позиций создателей. Мы не случайно сказали выше об артистизме всех участников. Комедия исследуется ими
ГУМАНИТАРНАЯ ПАНОРАМА: ОБЗОРЫ, КРИТИКА, ЭССЕ
HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS
в равной мере как идеологический конструкт и как совершенная и самодостаточная драматургическая структура. Не станем искать и педалировать отдельные актуальные стороны, спектакль стремится к гармонии и высшему порядку.
«Горе от ума» поставили и в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького (2021). Эта третья постановка в его вековой истории представляет тягостное зрелище иллюстрирования хрестоматии, приправленной сатирическим обострением (особенно воинственных женских образов) и жанровой усредненностью. Деидеологизация текста А. С. Грибоедова (относительно старых постановок 1937, 1950 гг.) произведена столь последовательно, что исчезла собственно идея самого автора, осталась тень пьесы и расчет на узнаваемость отдельных реплик. Мы подробно рассматривали эту работу [4], не будем останавливаться на ней еще раз. Важно, что она вписывается в некий ряд трактовок «Горя от ума», в которых ее смыслы возникают как бы стихийно, не спаянные точным каркасом режиссерского замысла. Вроде бы есть, а формулируются уклончиво, непоследовательно, по частностям. Но главное, они не дают воплотиться пьесе в целостности авторского мира. Ее поиск ведется в течение двухсот лет наукой и сценой, то есть, теорией и надтеоретическим знанием, способным в специфической живой форме представить стереоскопию конфликтов, типов и идей.
* * *
Итак, впервые проведенный в данном исследовании анализ некоторых современных интерпретаций комедии «Горе от ума» свидетельствует, что даже при радикальном переосмыслении они не стирают, а, напротив, обнажают устойчивость грибоедовского текста, неизменно актуального для любых эпох: крепостнической, позднеимперской, советской и постиндустриальной.
Можно констатировать отсутствие художественной целостности у обеих представленных сценических работ. Каждая из них отмечена лишь отдельными находками, локальными открытиями. Между тем режиссерские подходы к «Горю от ума» в рассмотренных постановках локализованы между консервативной верностью хрестоматийному канону и радикальным эпатажем, деконструирующим конфликт. Однако доминирующим трендом 20-х гг. XXI в. стал умеренно-классический метод, при котором текущий по воле автора текст, минуя идеологические клише, спонтанно выявляет новые смыслы, актуализируя психологическую глубину персонажей.
Соответствие авторскому замыслу достигается не буквальным следованием тексту, а подчеркиванием его «стержневой антиномии». Так, в севастопольской постановке конфликт Чацкого и Фамусова трактуется как вневременное столкновение «упорядоченного» и «взрывного» миропонимания, что близко грибоедовскому гротеску, тогда как в постановке краснодарского Молодежного театра данный конфликт трансформируется из мировоззренческого в игровой, сталкивая не позиции, а манеры актерской игры.
Эволюция театральной практики проявляется в переходе от социальнополитического прочтения к экзистенциальному. Если в ХХ в. доминировала бинарная оппозиция «прогресс»/«традиция» (Вс. Э. Мейерхольд, Г. А. Товстоногов), то рассмотренные современные постановки фокусируются на кризисе коммуникации: Чацкий, даже декламируя свои пламенные монологи, оказывается глух к реальности, а фамусовское общество остается невосприимчивым к его боли. Таким образом, именно экзистенциальное отчуждение становится доминирующим акцентом, читающимся в нюансах актерской игры и режиссерских приемов.
Стоит также отметить, что цифровая эпоха вносит в интерпретацию свои коррективы: визуальные метафоры и интерактивные трансформируют восприятие пьесы, но не отменяют ее культурной функции.
В дальнейшем возможно расширение географического и методологического охвата исследования с привлечением опыта театров постсоветского пространства. Такой подход, в частности, позволит выявить культурную специфику восприятия грибоедовского текста публикой стран ближнего зарубежья.
Завершая исследование, хотелось бы подчеркнуть, что эволюция театрального познания - бесконечный процесс, отмеченный незавершенной дискуссионностью. Сегодня «Горе от ума» идет в 30 театрах 18 городов России (по данным «Литературной газеты», нами обновленных) [3, с. 17]. Мы структурировали подходы к пьесе, понимая всю условность подобной структуризации. Какие-то приемы сценических интерпретаций повторяются и носят общий характер. Другие, еще недавно бывшие в ходу, отмирают – наука, театр и общество отразили их в своей духовной практике. Некогда влиятельные трактовки выступают сегодня раритетными и имеют исключительно архивное значение. Иные наоборот приоритетны и какое-то время ими пребудут. Драматическая форма А. С. Грибое- дова с нерушимой внутренней структурой, зафиксированной в стихе, обнаруживает бесконечную игру смыслов и множественность их интерпретаций.
Глаголы двигают смысл в языке и речи.
Мысль двигает научным исследованием.
Мысль + физическое действие двигают героями на сцене.
Живая сценическая картина двигает реакции зрительного зала.
«Горе от ума» – «магический круг, начертанный Грибоедовым» (И. А. Гончаров), все так же двигает, будоражит ум и чувство. И это самый достоверный вывод из двухсотлетнего бытия пьесы, не требующий подтверждений.
Rarities and Priorities: on the 200th Anniversary of Alexander Griboyedov’s Comedy Woe from Wit
HUMANITARIAN PANORAMA: REVIEWS, CRITICISM, ESSAYS