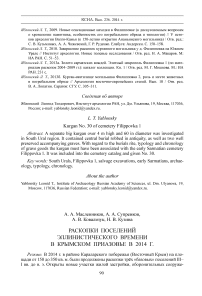Раскопки поселений эллинистического времени в крымском Приазовье в 2014 г
Автор: Масленников А. А., Супренков А. А., Ковальчук А. В., Кузина Н. В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Железный век
Статья в выпуске: 236, 2014 года.
Бесплатный доступ
В 2014 г. в районе Караларского побережья (Восточный Крым) на площади от 150 до 350 кв. м. были продолжены раскопки трех «базовых» поселений III-I вв. до н. э. Открыты новые участки жилой застройки, оборонительных сооружений, культовые и хозяйственные объекты. Получен значительный новый массовый и индивидуальный археологический материал, позволяющий уточнить и расширить наши представления о стратиграфии, хронологии и типологии данных памятников и состоянии всей сельской территории европейского Боспора в указанное время.
Восточный крым, караларское побережье, сельские поселения эллинистического времени, стратиграфия, хронология, раскопки, массовый археологический материал
Короткий адрес: https://sciup.org/14328117
IDR: 14328117
Текст научной статьи Раскопки поселений эллинистического времени в крымском Приазовье в 2014 г
В истекшем сезоне были продолжены раскопки трёх «базовых» поселений (городищ) эллинистического времени в районе Караларского побережья в Восточном Крыму. Основные усилия, как и прежде, были сосредоточены на исследованиях поселения «Полянка». (Вскрытая площадь при мощности культурного слоя от 1,5 до 5 м составила около 250 кв. м.) Как и все последние годы, работы велись на трёх отдельных участках в восточной и юго-восточной частях памятника, у подножья и на склоне господствующей скалистой возвышенности, ограничивающей долину с городищем в данном направлении (рис. 1, на вклейке, с. 386). Таким образом, основной раскоп продолжался к востоку, юго-востоку и югу. Именно здесь мощность культурных напластований наибольшая, поскольку основу его (кроме южного участка) составляет достаточно долговременный зольно-мусорный сброс. Он сформировался за время существования некоего поселения III–II вв. до н. э., до нашего времени фактически не сохранившегося. Отсюда происходит основная масса сделанных в этом сезоне находок. Это по преимуществу обломки импортной керамической тары центров, характерных для указанного времени (Синопа, Родос, Колхида, Книд, Косс) и некоторых неизвестных. Среди них – 32 амфорных клейма. Затем по численности следует простая красноглиняная столовая и кухонная посуда (кувшины, чашки-миски, горшки, лягиносы, тарелки, реже – рыбные блюда, светильники). Всё во фрагментах. Потом надо упомянуть обломки лепной керамики (горшки, миски, реже кувшины или кружки). Ещё реже встречались фрагменты поздней чернолаковой и буролаковой столовой посуды (чашки, канфары, рыбные блюда). Встречено также несколько обломков «мегарских» чаш, глиняные пирамидальные грузила, пряслица и большое количество костей, главным образом мелкого рогатого скота. Особо отметим двухстрочное граффито на обломке чернолакового канфара конца IV в. до н. э. Сами напластования этого времени, при их общей характеристике как зольно-мусорные, не были однородными. По степени насыщенности золой, раковинами мидий, битой посудой, мелким щебнем, кусками печины, камнями (или их почти полному отсутствию) таковых (слоёв и прослоек) выделяется несколько. Причем, как это фиксировалось и прежде, такое «разнообразие», как и мощность, меняются в зависимости от расположения по отношению к упомянутому склону холма. Более ярко представлены они на юго-восточном участке раскопанной площади, менее, но зато с большим числом камней – на восточном и почти отсутствуют на «южном» участках. Кроме того, на юго-восточном участке исследованной площади (практически повсеместно за остатками южной оборонительной стены) поверх упомянутых слоёв прослежен достаточно солид- ный «горизонт» почти стерильного супесчаного грунта – следствие долговременных эоловых процессов. Находок относительно более позднего времени (I в. до н. э. и особенно позднеантично-раннесредневековые), да и то в самых верхних слоях, на исследованной площади немного. Напомним, что, как и прежде, практически все выявленные строительные остатки относились к последнему периоду существования поселения, т.е., к I в. до н. э. При этом они представлены двумя-тремя строительными периодами. Из них первые два (на юго-восточном участке) существенно отличаются основными параметрами планировочных решений. А последующие – характеризуются скорее переменами в размерах, назначении и деталях «интерьера» помещений. По большей части, хотя, естественно, и в разной степени, все они были впущены в вышеупомянутые ранние напластования и фактически заполнены этим же грунтом, продолжавшим сползать по склону холма. Собственно находок I в. до н. э. в них встречено немного. Разумеется, на тех участках раскопа, которые были расположены в более ровной части памятника (условно к западу) эти особенности прослеживаются в меньшей степени. Тем не менее, культурные напластования, а это в основном заполнения помещений и пространства между ними (на вымостках и иных древних «дневных» поверхностях), содержали немало находок предшествовавшего времени, наряду с артефактами именно I в. до н. э. Причем по большей части (что и следовало ожидать) второй его половины. Это также в основном обломки амфорной тары, среди которой наиболее примечательны фрагменты условно светлоглиняных, двуствольных, реже светлоглиняных узкогорлых (раннего типа) или с воронковидным горлом амфор. Далее идут обломки красно - и реже сероглиняной столовой и кухонной посуды (кувшины, миски, блюда, тарелки, канфаро - кубки, горшки) нередко с лощёной поверхностью. Затем – лепные горшки, миски, кувшины и кружки, кастрюли, изредка подражавшие гончарной керамики. Наконец – отдельные фрагменты ранней краснолаковой керамики (кубки, чашки) и сероглиняных «мегарских» чаш. Упомянем также рыболовные грузила из ручек амфор, пряслица и снова, хотя и в меньшем количестве, кости домашних животных.
Строительные остатки в целом неплохой сохранности представлены следующими объектами. На восточном участке открыты, хотя и не полностью, два больших сообщавшихся между собой прямоугольных помещения, располагавшихся на самой высокой (восточной) террасе застройки поселения. Подпорная стена террасы, кстати, самая высокая из всех аналогичных стен, открытая ещё несколько лет назад, ограничивала их с запада. Ширина первого из них (южного) с севера на юг составляла 6 м. А длина (на востоке «границы» не раскопаны) – не менее 10 м. Скорее всего, это был значительный по площади, вымощенный плитами двор. Второе помещение (или два помещения) располагалось к северу и также было отчасти вымощено, отчасти имело глиняный, слегка обгорелый пол. Их разделяла солидная и довольно аккуратно сложенная стена (шириной около 0,9 м и длиной не менее 10 м), в которой имелось два столь же тщательно оформленных прохода шириной около 1 м. На последнем этапе функционирования данной постройки западный проход был, по-видимому, заложен. О размерах и назначении обоих (или одного?) этих помещений судить преждевременно. Но их (его) ширина была никак не меньше 5 м.
На юго-восточном участке к первому строительному периоду, несомненно, относился вновь выявленный «отрезок» стены, начало (и восточный угол с другой стеной) которой были раскопаны в прошлом сезоне. По всей видимости, это была изначально солидная постройка, сохранившаяся, правда, на исследованной в 2014 г. площади на незначительную высоту. Ширина её – не менее 0,8 м, а в основании использованы большие известняковые глыбы. Непосредственно над ней во втором строительном периоде было построено помещение. Общая же раскопанная длина этой стены (в направлении с северо-востока на юго-запад) – 8,5 м. Скорее всего, это была некая ограда или внешняя стена очень значительного по площади строения. Второй строительный период представлен здесь же большим, почти полностью (кроме юго-западного угла) открытым прямоугольным (8,3 × 5,6 м снаружи) помещением со стенами 0,6–0,7 м шириной и до 1 м высотой. Ориентация стен: север, северо-восток – юг, юго-запад и перпендикулярно оной. В южной части помещения частично уцелел довольно качественный пол (толщиной до 0,08 м) из плотного слоя светлой известняковой крошки. Вход в помещение располагался в центре «западной» стены, но также был заложен (в третьем строительном периоде?), в том числе большой, но относительно тонкой плитой, сильно завалившейся во-внутрь. Заполнение – ничем не привлекательно. А вот «восточная» стена – явно деформирована наклоном также во-внутрь. По-видимому, к этому же строительно-хронологическому этапу можно отнести и частично (продолжается почти точно как к востоку, так и к западу) раскопанную стену, располагавшуюся примерно в 4 м южнее только что упомянутого помещения. Её ширина – 0,8 м, сохранившаяся высота – около 1 м. Кладка аккуратная, назначение стены пока не ясно, но, вероятнее всего, это была ограда на краю поселения, возможно, на востоке шедшая вверх по склону холма.
На юго-западном участке были доследовано довольно большое, почти квадратное (4,5 × 4,6 м изнутри) помещение, частично открытое несколько лет назад. Являясь частью примыкавшего с севера к оборонительной стене блока-квартала строений (дома?), оно, судя по интерьеру и глиняному полу, являлось скорее жилым, нежели дворовым. В юго-восточном его углу находилась «сегментовидная» конструкция, ограниченная плоскими, поставленными на ребро камнями и забутованная камнями же изнутри. Назначение её не ясно. Столь же неопределённо и подпрямоугольное, плотное скопление средних по размеру камней в северо-восточном углу. В районе северо-западного – видимо, находился «ларь» из также поставленных на ребро плит, а вблизи юго-западного угла – порог перед опять-таки заложенным на каком-то этапе функционирования «дома» проходом в соседнее с «юга» помещение. Ширина прохода около 1,5 м. Непосредственно к востоку от порога расчищены остатки почти квадратной (0,8 × 0,86 м) печи плохой сохранности. Находки из данного помещения ничем особенно не выделялись.
К западу от только что описанного помещения, отделённый от неё весьма тонкой (0,45–0,5 м) и небрежно сложенной стеной (к тому же плохо сохранившейся), располагался тщательно вымощенный двор размером 4,3 × 3 м. Проход, соединявший его с помещением, по крайней мере, дважды менял свою ширину (от 1,4 до 0,8 м). На плитах двора лежала часть верхнего камня квадратной зернотёрки. А к югу от двора находилось ещё одно помещение данного дома, уже непосредственно примыкавшее к оборонительной стене. Собственно, первоначально здесь было одно большое (8 × 4,8м) прямоугольное помещение, почти всё вымощенное большими относительно плоскими камнями. Затем, в его юго-западной части двумя относительно тонкими (до 0,45–0,5 м) и не очень основательными стенками было «выделено» небольшое (2,5 × 2,6 м) пространство, также частично вымощенное. Вероятно, здесь в оборонительной стене городища изначально существовал проход (калитка?) шириной около 2 м, впоследствии небрежно заложенный. От «него» частично сохранился грубый порог, сложенный из средних и небольших камней. К западу от порога (в юго-западном углу нового помещения) расчищен плохо сохранившийся прямоугольный очаг. Не исключено, что вход в эту «секцию» рассматриваемого блока помещений (квартала, дома?) был, хотя и не сразу, устроен в его западной стене, как раз перед только что описанным «привратным» помещением-коморкой с очагом. Но и он, кажется, был, в конце концов, заложен. Снаружи весь выше описанный блок строений ограничивался весьма качественными стенами и в своём первоначальном варианте, имел в плане подтрапециевидную форму при общей площади примерно 13,5 ×10 м. Помимо прочего на данном участке была раскопана на протяжении 5 м и сама оборонительная стена, частично с её заложенным «отрезком-проходом».
Далее, в 3,5–4 м к западу, через неровное (естественное понижение уровня материковой глины и щебня к западу и в меньшей степени – к северу), но незастроенное пространство располагался ещё один примыкавший к оборонительной стене блок-квартал строений, имевший, видимо, такую же ширину, что и предыдущий. От него пока раскопан всего лишь северо-восточный угол одного из помещений. Ясно, что частично (на втором этапе существования) оно было вымощено, а внешние стены имели толщину около 0,7–0,8 м. Видимо, к северу проходила узенькая улочка, также через какое-то время частично вымощенная. А вот непосредственно к востоку, вдоль восточной стены всего этого блока строений (чуть выше её основания и отступив от неё на 0,2–0,3 м) была расчищена ровная однорядная стенка из небольших камней. Она являлась своего рода укреплённым бортом неглубокой канавки, скорее всего, служившей водостоком. Из находок в данном помещении отметим редкую медную монетку города Ами-са времени Митридата Евпатора.
Наконец, почти в двух десятках метров к востоку от юго-восточного угла раскопанной площади, почти у вершины холма, была доследована солидная, вероятно, подпорная стена, выявленная ещё в 2010 г. Оказалось, что она сохранилась в длину на 8.6 м в направлении, близком к «север–юг», при максимальной высоте 2,1 м и ширине около 0,6 м. Северный участок её был разрушен в 1944 г. карьером, а южный – примыкал к слабо выраженному выступу материковой скалы. У основания стены (к западу) в нескольких местах, но на достаточно большой площади был зачищен хорошо сохранившийся, практически горизонтальный, ровный слой частично обгорелого пола (плотный слой глины толщиной до 0,04 м). А почти у краёв стены, но не соединяясь с ней, – два почти перпендикулярных стене ряда средних необработанных камней: некое подобие плохо сохранившихся и небрежно сложенных кладок. Находок отсюда совсем немного, да и те происходят лишь из нижнего (предпольного) горизонта золистого грунта. Среди них: фрагменты дна сероглиняного лощёного блюда, глиняное же пряслице. Не исключено, что в I в. до н. э. к ранней подпорной стене некоей платформы на вершине холма были пристроены стены жилого помещения самой верхней террасы застройки поселения I в. до н. э., на первом этапе (I СП) его существования.
В 2014 г. работы на поселении « Крутой берег» велись на общей площади 200 кв. м и преследовали две цели. Во-первых, продолжение исследования оборонительной системы. Новые квадраты были заложены к западу от раскопа 2013 г. по направлению южной стены городища с целью выяснения соотношения линии укреплений и расположенных к северу от нее жилых кварталов, а также уточнения датировки самой стены и поиска главных въездных ворот. Установлено, что эта застройка появилась, по крайней мере, не одновременно с внешними укреплениями: стены домов пристраивались непосредственно к оборонительной стене некоторое время спустя, и как правило, кладки их были в этом месте однорядными. Ориентация кварталов, вернее – стен строений, как бы зависела от направления линии обороны: в среднем с отклонением на 15º к северу (и соответственно – к западу) от сторон света. Жилые постройки были возведены на слое золистой супеси толщиной около 25 см, который подстилала прослойка горелого грунта (до 1–2 см), лежащая непосредственно на относительно более плотной материковой супеси. Характерно, что эта прослойка фиксируется только в помещениях, примыкавших к оборонительной стене. Возможно, она появилась в связи с событиями, приведшими к разрушению, перестройке и укреплению оборонительной стены с юга дополнительным рядом камней, что было выявлено раскопками 2012–2013 гг. Отметим также наличие горелого слоя с внешней стороны от линии укреплений. Кроме того, в этом году в северной части раскопа было найдено довольно крупное (весом около 1 кг) каменное ядро от метательной машины.
Предварительная датировка оборонительной стены была установлена ещё в 2009 г. на основании материала, полученного из траншей, прокопанных ниже ее основания вдоль северного и южного фасов. Находка здесь, помимо амфорных обломков, синопского клейма астинома Эпиэлпа позволила отнести сооружение стены ко времени сразу после 300–280 гг. до н. э. Анализ же находок из упомянутого слоя золистой супеси подтверждает эту дату. Основная часть материала отсюда – это фрагменты амфор Синопы, а также отдельные обломки чернолаковой керамики конца IV – первой трети – половины III в. до н. э. Общая протяженность открытой раскопками оборонительной стены на сегодняшний день составляет 47 м. Однако, несмотря на это, до сих пор остается неизвестным месторасположение ворот. Без сомнения, эту функцию не могла выполнять открытая еще в 1980-е гг. в восточной части стены небольшая заложенная камнями позднее вылазная калитка. С учетом площади, вскрытой в этом году, до раскопа 1980-х гг., расположенного у западного края берегового обрыва, остается неисследованным участок шириной всего 5 м.
К северу от границы укреплений в истекшем сезоне были открыты остатки пяти условных помещений с имевшимися в них очагами и хозяйственными ямами. Анализ строительных остатков позволяет говорить, по меньшей мере, о трёх строительных периодах на протяжении их бытования. Наибольшей со- хранностью отличаются постройки, расположенные в северо-восточной части раскопанной площади, где высота стен достигала 1 м. При этом стены помещений первого строительного периода были ориентированы, как уже отмечалось, с учетом направления оборонительной стены. А их основания находились на слое известняковой крошки-тырсы, лежавшей непосредственно на погребенной почве. Образование этого слоя было связано, по всей видимости, с некоей нивелировкой древней дневной поверхности, что косвенно подтверждается различной толщиной этого слоя (от 2 до 30 см). Ко второму строительному периоду относится большое помещение в северо-западной части раскопа. Открытая в 2014 г., юго-восточная часть его занимала площадь 8,3 × 5,7 м. Стены этого помещение были уже ориентированы несколько иначе: точно по сторонам света. Пространство внутри них вымощено известняковыми плитами, а рядом с одной из стен открыт очаг, сооруженный из пяти плоских, поставленных на ребро камней. Основание его также было выложено небольшими плоскими камнями, а в центре оставлено небольшое отверстие диаметром и глубиной около 30 см.
Основная масса находок относится ко времени с 280 по 220 гг. до н.э. Несколько более ранний материал фиксируется в основном в хозяйственных ямах, заглубленных в материковый грунт. Отметим находки обломков терракотовых статуэток: головки Деметры, частей статуэтки Кибелы со львенком и фрагмент со складками одежды. Эти находки, так же как и статуэтка Кибелы с тимпаном и чашей, обнаруженная в 2013 г. на соседнем участке, вместе с миниатюрными (вотивными) сосудиками и пряслицем, скорее всего, связаны с неким домашним святилищем, которое может быть датировано второй половиной III в. до н. э. Из прочих индивидуальных находок упомянем 18 в основном синопских амфорных клейм и фрагментированную массивную лепную курильницу с лощёной поверхностью.
Археологические работы проводились также на зольном холме, расположенном у бухты Сиреневая. Здесь на глубину в два штыка (до 0,4 м) был прокопан юго-восточный сектор холма (работы на котором начаты в прошлом году), а также исследовался северо-восточный сектор. В крайней южной части юго-восточного сектора удалось выйти на слой желтого плотного сырца, в который была заглублена стена, идущая с северо-востока на юго-запад. Сырец, по всей вероятности, является некоторой подушкой-основанием, на которую насыпалась зола, а открытая стена должна была ограничивать холм с южного края и препятствовать сползанию золы.
Работы в северо-восточном секторе были остановлены на глубине 1,1 м от вершины холма. Здесь в центральной части были зафиксированы остатки постройки, которая, судя по совокупности находок (гильзы, куски рубероида, железные гвозди и накладки), относилась ко времени Великой Отечественной войны. Эта «врезка» хорошо выделялась по характеру грунта (коричневая супесь с небольшим количеством золы). В остальной части этого сектора каких-либо строений не обнаружено, а грунт представлял собой золистую супесь с большим количеством измельченных раковин, горелыми прослойками и кусками печины.
Как и в прошлом году, фрагменты керамики фиксировались на плане при помощи тахеометра, кроме того, была организована просевка всего грунта из раскопа через мелкую сетку. В результате было получено 95 % от всей коллекции стекла и в общей сложности 12 189 единиц т. н. массового материала, из которых на плане было отмечено 2360 точек, что составило 19 % от этого числа. Статистический анализ этих находок дал следующее процентное соотношение: доля лепной керамики составила 46 %, амфоры – 38 % (из них только 5 % – профильные части), 10 % приходится на костный материал, 4 % – краснолаковая керамика, 2% – тонкостенная посуда, менее 1 % – стекло и индивидуальные находки. Амфорный материал представлен фрагментами боспорских широкогор-лых амфор, амфорами типа Делакеу (№100, по И. Б. Зеест), светлоглиняными узкогорлыми – типа D и F – и светлоглиняными типа набегающая волна (узкогорлые). В целом, амфорная тара датируется II – первой половиной VI в. Среди краснолаковой керамики отметим форму 3 группы позднего «римского С», четыре донца с клеймами третьей хронологической группы – в виде креста с двумя орнаментальными подвесками и креста с двойной линией контура (третья четверть V в.), также африканскую краснолаковую – формы 62В (конец IV – третья четверть VI в.). Особо следует выделить предметы, связанные, по-видимо-му, с некими сакральными действиями: фрагменты лепных светильников в виде ладьи или конуса на высокой ножке, ручку краснолакового светильника в виде листа, а также большое количество небольших лепных сосудов с носиками-сливами, которые могли использоваться при возлияниях. Характерной чертой северо-восточного сектора является концентрация здесь большого числа глиняных пряслиц (20 экз.), часть из которых имела точечный орнамент, а также лепных сосудов с зооморфно украшенными ручками.
В совокупности весь материал из зольника относится ко времени с конца II в. н. э. до середины VI в. н. э. и соотносится с финальным этапом существования расположенных рядом городища и некрополя.
На городище Сююрташ (Золотое-Восточное) в истекшем сезоне работы продолжались к югу и востоку от раскопа 2013 г. Общая вскрытая площадь составила 150 кв. м. Стратиграфия на южном участке была представлена двумя основными слоями: светло жёлтой супесью и светло-серой, золистой супесью. Общая мощность культурных напластований (вместе со слоем гумуса) достигала 1 м.
На восточном участке материковая скала находилась недалеко от дневной поверхности и мощность культурного слоя (в основном гумуса) не превышала 0,3 м.
На южном участке строительные остатки – это в основном заглублённые в материк ямы. Так, была докопана яма № 21, северная часть которой была исследована ещё в прошлом году, а также доследована большая яма № 15. Её глубина не превышала 0,5 м, зато параметры горловины составили 2,8 м с севера на юг и 2 м с запада на восток. В северной части дна этой ямы были прослежены четыре небольших (диаметр до 0,3 м) костровых или столбовых ямки. Вновь выявленная яма № 28, расположенная в центральной части участка, имела круглую в плане форму. Диаметр её горловины составлял около 1,2 м, а глубина 0,5 м. Каменные конструкции здесь были представлены двумя невыразительными стенами № 23 и 24, образовывавшими (в переплёт) почти прямой угол. Первая из них, ориентированная по линии запад–восток, имела длину 2,6 м и ширину около 0,5 м. Её высота не превышала 0,4 м. Стена 24, ориентированная с севера на юг, сохранилась в длину на 2,2 м при ширине около 0,4 м и высоте не более 0,4 м. К северу и востоку от этих стен был зафиксирован завал средних и мелких камней, площадь которого составляла 2 × 1,6 м.
На восточном участке из строений выявлен лишь небольшой отрезок стены (№ 25), расположенной в северной части. Длина его составляла 1,3 м, ширина – 0,5 м, а высота не превышала 0,6 м.
Коллекция индивидуальных находок пополнилась всего 31 предметом. Среди них: медная пантикапейская монета III в. до н. э., амфорная стенка с граффити, фрагмент терракотовой статуэтки, несколько обломков «мегарских» чаш, фрагментированный чернолаковый канфар, а также более двух десятков синопских и родосских амфорных клейм. Массовый материал, как обычно, представлен фрагментами амфор, красноглиняных и сероглиняных сосудов, немногочисленными обломками чернолаковой керамики и довольно значительным числом обломков лепных мисок и горшков. Как и прежде, очень много костей домашних животных.