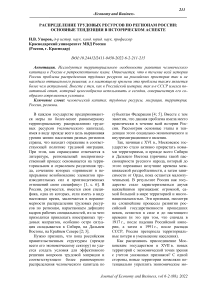Распределение трудовых ресурсов по регионам России: основные тенденции в историческом аспекте
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 6-2 (88), 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследуются территориального особенности развития человеческого капитала в России в ретроспективном плане. Отмечается, что в течение всей истории России проблема распределения трудовых ресурсов на российских просторах так и не находила оптимального решения, и к настоящему времени эта проблема также является более чем актуальной. Вместе с тем, как в Российской империи, так и в СССР имелся позитивный опыт, который целесообразно использовать и сегодня, совершенствуя его сообразно современным условиям.
Человеческий капитал, трудовые ресурсы, миграция, территория, Россия, регионы
Короткий адрес: https://sciup.org/170195130
IDR: 170195130 | DOI: 10.24412/2411-0450-2022-6-2-211-215
Текст научной статьи Распределение трудовых ресурсов по регионам России: основные тенденции в историческом аспекте
В каждом государстве предпринимаются меры по более-менее равномерному территориальному распределению трудовых ресурсов (человеческого капитала), имея в виду прежде всего цель выравнивая уровня жизни населения разных регионов страны, что находит отражение в соответствующей политике трудовой миграции. При этом, как справедливо отмечается в литературе, региональный воспроизводственный процесс основывается на территориальном и отраслевом разделения труда, сочетание которых «привносит в непрерывное возобновление элементов производительных сил и производственных отношений свою специфику» [1, с. 6]. В России, разумеется, имеется своя специфика, одна из которых, если иметь в виду настоящее время, заключается в неравномерности распределения трудовых ресурсов по регионам, нарастающем дефиците кадров рабочих специальностей, из-за чего приходится привлекать иностранных трудовых мигрантов, особенно остро ситуация складывается в Сибири, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере [2; 3].
Нужно признать, что пока российским правительственным структурам (прежде всего его экономическому сектору) не удается создать условия для эффективного решения вопросов трудовой миграции и соответствующего более равномерного распределения человеческого капитала по субъектам Федерации [4; 5]. Вместе с тем заметим, что данная проблема имела место практически в течение всей истории России. Рассмотрим основные этапы и тенденции этого социально-экономического и внутримиграционного явления.
Так, начиная с XVI в., Московское государство стало активно прирастать новыми территориями, и прежде всего Сибири и Дальнего Востока (причины такой пассионарности русского народа, который до этого переживал нелучшие времена межкняжеской раздробленности, а затем зависимости от Орды, пока остаются малоизученными). В результате Россия как государство стало характеризоваться двумя важнейшими признаками: огромной, самой большой в мире территорией и много-национальностью. Эти признаки, несмотря на сложнейшие процессы развития российской государственности прошедших веков, остаются в силе и до настоящего времени (и это при том, что сначала в 1917 г., после падения Российской империи, а затем в 1991 г., после распада СССР, Россия претерпела территориальные потери и уменьшение населения).
Как расценивать присоединение Московским государством в XVII в. новых территорий с экономической точки зрения с учетом указанных признаков? С одной стороны, новые территории позволяли потенциально укреплять экономическое мо- гущество России, учитывая наличие неисчислимых запасов леса, металлов, пушнины и т.д. Но, с другой стороны, для реализации такого потенциала требовалось привлечение огромных трудовых ресурсов, то есть человеческого капитала. И с самого начала колонизации восточных земель российское правительство столкнулось с этой проблемой, учитывая, что местные жители в лице коренных этносов не были готовы к экономической деятельности требуемого уровня. Не решала проблемы и карательная политика российского государства, когда ссыльные на каторгу и поселение направлялись в дальние края для отбывания наказания, поскольку и численно, и мотивационно, и, главное, ввиду отсутствия необходимой профессиональной трудовой квалификации, осужденные преступники были не в состоянии решать экономические задачи по освоению отдаленных территорий, имея в виду прежде всего строительство заводов, городов и т.д. Соответственно человеческий капитал приходилось перемещать из европейской части России за Урал.
Длительное время трудовая миграция в России носила спонтанный характер, и особенно это было заметно в эпоху Петра Великого (первая четверть XVIII в.), когда, с одной стороны, нужно было развивать отдаленные территории, а с другой стороны по грандиозным петровским планам требовалось много рабочей силы в европейской части страны, и император неоднократно требовал присылать тех же каторжников на строительство крепостей и других объектов преимущественно военного характера. Так, в 1707 г., узнав о приостановке на сооружении Петропавловской крепости, Петр I пишет Кикину: «Того ради донеси господину Апраскину, чтоб на сию работу каторжных невольников употребить, понеже ныне лето своими ти-шинами миновалось, а галерам больше дела нет; к тому и холопей государевых прибавилось» [6, с. 188]; перемещать каторжных приходилось и по другим объектам, расположенных близ Санкт-Петербурга.
Более системно вопросы распределения человеческого капитала по разным регионам России стали решаться лишь с первой четверти XIХ в., когда внутренняя миграционная политика стала обретать свои черты. Так, 10 апреля 1822 г. был издан Указ «О дозволении казенным крестьянам переселяться на земли Сибирских Губерний» [7], которым, в частности, предписывалось: «1. Переселение в Сибирские Губернии казенным крестьянам по желанию их на удобные и свободные земли из всех других Губерний дозволить. Дозволение сие распространяется на старожилов и в самой Сибири, когда они пожелают перейти из одной Сибирской Губернии в другую … 5. Не позволять переселения крестьянам прежде, нежели взнесут они все причитающиеся на них по прежнему жительству недоимки…» [7]. Указом предполагалось, что крестьяне будут заинтересованы ухать из малоземельных районов европейской части России и перебраться в Сибирь, где земли было много.
Однако и в этом случае данный стимулирующий закон не получил активного практического воплощения в связи с необходимостью оформления множества документов, в итоге этот проект, предварявший столыпинские реформы, не получил должного развития. Не дали ожидаемого результата и планы Столыпина по переселению крестьян в Сибирь [8], однако сама методология решения проблемы заслуживает внимательного ее изучения. Если же вести речь о миграции трудовых ресурсов для развития промышленности, то в период Российской империи этот вопрос так и не был поставлен на должный государственный уровень. При этом даже не обсуждалась необходимость целенаправленно развивать национальные отношения, предусматривающие прежде всего диалог национальных культур разных территорий страны, чему как раз и могла бы способствовать трудовая миграция, и в этом смысле Ленин был в значительной мере прав, называя царскую Россию «тюрьмой народов». Так, к концу XIХ в. наблюдалась значительная дифференциация губерний по показателю занятости населения, например, в 50 губерниях в промышленности было занято более 1,2 млн рабочих, причем половина из них была сосредоточена только в шести губерниях [9, с. 67]. В этой связи Е.А. Ефимова справедливо замечает, что «сам по себе рыночный механизм не способен решить и урегулировать вопросы занятости и перераспределения рабочей силы в масштабах страны. Отсутствие единого общероссийского рынка труда, неразвитость законодательства в сфере охраны труда и законодательства о переселениях, тяжелые социальноэкономические условия жизни большинства людей в начале XX века способствовали широкому распространению идей марксизма в нашей стране, что, в конечном счете, привело к революции 1917 г.» [10, с. 153].
В советском государстве трудовые миграционные процессы получили более активное развитие, что было обусловлено прежде всего государственным устройством (экономика на основе государственной собственности, соответственно человеческий капитал можно было перемещать централизованным образом). Так, в 1925 г. был разработан проект освоения и развития Дальнего Востока на десять лет, который предполагал мероприятия на развитие сельского хозяйства и колонизацию, транспортной инфраструктуры, включая достройку Амурской железной дороги, прокладку шоссейных дорог, строительство портов» [11, с. 6]. Для этого нужны были миллионы рабочих рук. В значительной степени потребность в рабочих руках восполнялась использованием дешевого труда заключенных в рамках печально известного ГУЛАГа. Но все же основная часть тех, кто осваивал отдаленные места в СССР, были специалисты, которых государство существенным образом стимулировало (выдача подъемных, высокие заработки, удлиненные отпуск аи другие льготы).
Существенной представляется также политико-идеологическая составляющей, когда, например, строительство заводов, ГЭС, шахт и других объектах в отдаленных районах СССР для молодежи считалось трудовым подвигом, важной частью жизни юношей и девушек, десятки тысяч которых устремлялись на комсомольские стройки, в том числе и за романтикой. Очень важно отметить, что в Сибирь, на
Север, Дальний Восток ехали представители самых разных народов, проживающих в СССР. Многие оставались на постоянное место жительства. В результате происходил непосредственный обмен культурными традициями, люди чувствовали, что живут и трудятся в единой многонациональной стране.
После распада СССР в 1991 г. в постсоветской экономике России, резко переориентированной на рыночные отношения, достаточно долго наблюдалось кризисное состояние, и уже тогда была обозначена тенденция ускоренного оттока населения из отдаленных районов (прежде всего из Сибири и Дальнего Востока) в европейскую часть страны. Так, население только лишь Дальнего Востока за 30 лет (19882018 гг.) сократилось на 22,9% [12, с. 107]. Как отмечает Г.А. Зюганов, «обезлюдива-ние сибирских территорий и миграция из соседних стран очень тревожное явление. Эти процессы ставят Россию на грань потрясений. И катастрофическая депопуляция Сибири – это угроза национальной безопасности» [13]. И это суждение, высказанное в 2007 г., по-прежнему актуально. Обратим внимание, что продолжающаяся отрицательна миграция человеческого капитала (из отдаленных районов страны в европейскую часть России), негативно влияет и на развитие национальных отношений.
Дело в том, что эти отношения не могут эффективно развиваться без непосредственного и, подчеркнем, постоянного (а не эпизодического в виде отдельных мероприятий) общения представителей разных народов, проживающих в России. А это возможно только на основе совместного экономического развития, поскольку для абсолютного большинства людей именно труд является главной составляющей всей жизни. Но этой совместности по указанным выше причинам как раз и не хватает. Большинство субъектов Федерации замыкаются в рамках своей региональной экономики. Молодые люди из многих республик редко куда выезжают, внутренний туризм развит еще слабо, и у многих теряется ощущение, что они живут в огромной многонациональной, но еди- ной стране. При этом, например, в Дагестане, уже длительное время наблюдается высокий уровень безработицы, «причем наиболее уязвимой является молодежь» [14, с. 74]. Поэтому, на наш взгляд, должны быть востребованы межрегиональные экономические проекты в тех районах, куда будет перемещаться человеческий капитал из других территорий, и в которых могли бы участвовать представители разных народов. Для этого нужно использовать позитивный исторический опыт советского государства, привносить новые элементы, диктуемые современными реалиями, позволяющие обогатить сибирские и дальневосточные просторы нашей страны добротным человеческим капиталом.
Список литературы Распределение трудовых ресурсов по регионам России: основные тенденции в историческом аспекте
- Ломовцева О.А., Солина Н.А. Особенности регионального воспроизводственного процесса // Экономика. Информатика. Серия "История. Политология. Экономика. Информатика". 2010. № 13 (84). С. 5-9.
- Строева Г.Н. Основные тенденции развития регионального рынка труда // Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 12. С. 12-32.
- Садыков Р.М., Мигунова Ю.В. Угрозы на региональном рынке труда и проблемы занятости населения // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 3. С. 156-168.
- Назырова Н.Х., Иванцова Г.А. Система правового регулирования миграционных процессов в России // E-Scio. 2021.
- Гимбатов Ш.М. Совершенствование системы управления в области регулирования трудовых миграций в субъектах СКФО // Региональные проблемы преобразования экономики. 2021. № 11. С. 91-95.
- Филиппов А. О наказании по законодательству Петра Великого, в связи с реформой. М.: Универс.тип., 1891.
- Указ Именный, данный Сенату, от 10.04.1822 г. «О дозволении казенным крестьянам переселяться на земли Сибирских Губерний» // ПСЗ-1. № 28997.
- Шиловский М.В. А была ли столыпинская реформа в Сибири? // Вестник Томского государственного университета. Серия: "История". 2012. № 1(17). С. 25-29.
- Короленко С. А. Вольнонаемный труд в хозяйствах владельческих и передвижение рабочих в связи со статистико-экономическим обзором Европейской России в сельскохозяйственном и промышленном отношениях. СПб., 1892.
- Ефимова Е.А. Из истории развития региональных рынков труда в России // Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2011. № 8. С. 152-159.
- Гамарник Я. Б. Советская колонизация ДВО // Экономическая жизнь Дальнего Востока. 1925. № 9. С. 3-8.
- Ярашева А.В., Макар С.В. Влияние демографических факторов на трудовой потенциал регионов Дальнего Востока // Региональная экономика. 2019. № 2. С. 103-115.
- Зюганов Г.А. Обезлюдивание Сибири ставит Россию на грань потрясений // https://kprf.ru/rus_soc/50868.html / дата публикации: 14.08.2007 г. (дата обращения: 30.06.2022 г.).
- Стофарандова В.В. К вопросу об основных подходах к регулированию занятости в регионе (на примере Республики Дагестан) // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. № 9. С. 74-82.