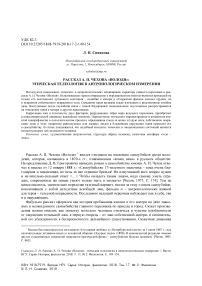Рассказ А. П. Чехова "Володя": этическая телеология в антропологическом измерении
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Исследуется взаимосвязь этических и антропологических мотивировок характера главного персонажа в рассказе А. П. Чехова «Володя». Испытываемое героем отвращение к окружающим во многом является проекцией не только его постоянного душевного состояния - нелюбви к матери и отторжения фальши дачного кружка, но и неприятия собственного некрасивого тела. Страдания героя вызваны также влечением к родственнице хозяйки дачи. Наступившее после случайной связи с Анной Федоровной эмоциональное опустошение распространяется на отношение героя к матери и другим персонажам. Корреляция лжи и телесности, двух факторов, разрушающих образ мира ведущего персонажа, приобретает в повествовательной динамике важнейшее значение. Переплетение этического мировосприятия и антропологической саморефлексии в психологическом процессе переживания стыда за вечно лгущую мать, собственное некрасивое лицо и тело, неприятие равнодушных или лживых людей в ближайшем окружении героя приводит его к самоубийству. В статье доказывается, что подобный комплекс этических и эмоциональных состояний является концептуальным для чеховского человека.
Художественная антропология, структура образа человека, сюжетная метафора "тело - ложь"
Короткий адрес: https://sciup.org/147219899
IDR: 147219899 | УДК: 82-3 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-2-149-154
Текст научной статьи Рассказ А. П. Чехова "Володя": этическая телеология в антропологическом измерении
Рассказ А. П. Чехова «Володя» 1 явился откликом на эпидемию самоубийств среди молодежи, которая, начавшись в 1870-х гг., ознаменовала «конец века» в русском обществе. На предложение Д. В. Григоровича написать роман о самоубийстве юноши А. П. Чехов отвечал в письме от 12 января 1888 г.: «Самоубийство 17-тилетнего мальчика – тема очень благодарная и заманчивая, но ведь за нее страшно браться! На измучивший всех вопрос нужен и мучительно-сильный ответ <…> Чтобы овладеть таким лицом, надо самому уметь страдать, современные же певцы умеют только ныть и хныкать» [Чехов, 1975. С. 174]. Тем не менее писатель, значительно переделав газетный вариант, взялся за тему о юном самоубийце, покончившем с собой вследствие всеобщей лжи, фальши и – антропологически важной для героя – телесной некрасивости. Последнюю ведущий персонаж наблюдает как в себе, так и в окружающих.
Фабульно рассказ оформлен как история пребывания юноши и его матери на даче знакомых и неожиданного самоубийства главного персонажа по приезде в город. Сюжет произведения можно описать как попытку молодого человека отвлечься в чувстве влюбленности от ощущения тотальной лжи, в первую очередь – от лжи собственной матери, и окончательной его убежденности в беспросветности дальнейшего существования. Сюжетная динамика рассказа заключается в нарастании состояния усталости и озлобления в герое. Ведущим мотивом становится ложь: словесная (лганье матери), психологическая (лживость дачного кружка, фальшь или грубость интонаций, разговоров, жестов – вербальных и невербальных сигналов либо уклончивости, либо манипулятивного поведения), наконец, бытийная (подмена смыслов жизни, свободы и любви). Импульс самоубийцы объясняется, в первую очередь, потребностью в освобождении от лжи.
Исследовавшая феномен чеховских самоубийц Э. А. Полоцкая размышляет: «…“жизнь надоела” – это значит, что она протекала не так, как хотелось бы. Грех самоубийства оказывается грехом неверно прожитой жизни. <…> Этика человека, подавленного рутиной, может показаться <…> менее компромиссной, чем этика восставшего против нее ценою собственной жизни. Здесь есть соблазн соотнести эту оценку с осуждением самоубийцы церковью <…>. Так ли это? Ситуация “жизнь надоела” (т. е. жить стало невозможно) в мире Чехова соотносится с ситуацией “больше жить так невозможно!” (курсив автора. – Л. С .)» [Полоцкая, 2006. С. 163]. Автор статьи продолжает: «Пока человек способен к бунту, душа его жива. С потерей этого свойства внутренние силы его иссякают, это конец живой жизни. Вот почему герои Чехова так часто боятся дождить до старости <…>» [Там же. С. 165]. Добавим: Володя еще слишком юн, чтобы принять осознанное решение об уходе из жизни. Но ему действительно надоела жизнь, что подтверждает и Э. А. Полоцкая [Там же. С. 162].
Исследовательница делает вывод о безвыходности положения чеховских героев-самоубийц. Отмечая в сюжетах А. П. Чехова «предшествующий гибели героя монотонный гнет обыденщины», известный чеховед называет главную причину трагедии Володи: «Внутренний протест <…> против сложившегося уклада жизни в материнском доме и в гостях, уклада, видимо, тяготившего его давно» [Там же. С. 159]. Бесспорно, в бунте против лжи кроется главнейшая причина самоубийства героя. Однако кроме внутреннего протеста отметим приведший к выстрелу эмоциональный импульс Володи, его мгновенное побуждение прекратить накопившееся в нем отвращение к жизни. В немалой степени оно было вызвано именно антропологическими причинами (осознание власти плоти, отторжение от собственной телесности).
Своеобразие чеховского психологизма в рассказе, на наш взгляд, заключается в теснейшей связи раздражения героя от неискренности матери и пренебрежения остальных и недовольства собой как телесным существом. Корреляция этических составляющих поведения и – шире – жизнеполагания персонажей и их телесного облика служит матрицей образа чеховского человека не только в этом рассказе, но и в дальнейшем творчестве. Помимо общелитературных фундаментальных антропологических универсалий: душа – тело, разум – рассудок – сердце, стихийное и бессознательное (страсть), для созданного Чеховым человека приобретают важность два противоположных психологических состояния: эмоционально емкое переживание (радость, счастье) и обыкновенное и привычное отсутствие переживаний («скука жизни»). Скука, безотчетная тоска и каждодневный обман, вернее, многочисленные обманы, исходящие от «всех», удручают героя рассказа. Обыденность поглощает «страсть» и приводит его к самоубийству.
Начальная ситуация рассказа задает тему телесной неблаговидности и – пока обыкновенной, исходящей от быта – скуки: «В одно из летних воскресений, часов в пять вечера, Володя, семнадцатилетний юноша, некрасивый, болезненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал» [Чехов, 1985. С. 197] 2. На протяжении тех суток, что составляют художественное время основного сюжета (явление покойного отца отходящему в мир иной герою относится к концептуальному завершению повествуемой истории и ахронично), скука повседневности трансформируется в скуку экзистенциальную, из которой осуществим единственный выход – в небытие. По замечанию Р. С. Спивак, «скука рано или поздно настигает бо́ льшую часть чеховских героев, составляет неизбежный атрибут жизни чеховских персонажей <…>. Определение “скучно” и синонимы “тоскливо”, “тошно” Чехов использует, изображая обыденную жизнь, труд и душевное состояние» разнообразных героев [2008. С. 192– 193]. В конце концов, «скука вырастает в атрибут трагедии “неподлинного существования”
человека, приобретает экзистенциальный характер и в самом широком смысле означает оскудение, ослабление жизни, ее скатывание в смерть» [Там же. С. 203].
Володя поначалу просто раздражен: завтра ему предстоит выдержать экзамен по математике, а он, наверняка, его не выдержит и будет отчислен из гимназии; богатые Шумихины, на даче которых постоянно гостит мать Володи, за глаза ее бранят (пребывание у них «причиняло постоянную боль его самолюбию» (с. 197)); наконец, юноша подозревает, что влюбился в кузину Шумихиной – тридцатилетнюю Анну Федоровну. Испытываемое им чувство к Нюте – Анне Федоровне – «странное» и «неприятное». Анна Федоровна «была подвижная, голосистая и смешливая барынька, <…> здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасива и не молода – Володя отлично знал это, но почему-то он был не в состоянии не думать о ней <…>» (с. 197–198).
Притяжение к некрасивой и глупой Нюте объясняется комплексом чувственно-эмоциональных побуждений, причем именно ощущение телесности в составе этой страсти тяготит Володю: «Ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы» (с. 200). Чувство стыда после сцены в беседке, когда Нюта отвергла его, усугубляется неприятием собственной некрасивости. Володя знал, что обладает заурядной внешностью: «...он вспоминал про свою непобедимую робость, <…> веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображении рядом с Нютою – и эта пара казалась ему невозможной; тогда спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным <…>» (с. 198). Когда же Нюта, освобождаясь от неуклюжих объятий Володи, удивилась, какое у него «нехорошее… злое лицо», герой догадывается, что «злое» относится не к внешней неблаговидности, а к телесно-плотскому существу его персонального целого.
Стыд Володи усиливается, когда он случайно слышит разговор Нюты и матери после происшествия в беседке. Нюта уверяет, что «у него есть манера» и «в лице у него было что-то зверское, как у черкеса», а мать героя с «протяжным смехом» подтверждает его сходство с отцом (с. 201). В продолжение этого невыносимого для Володи разговора мать уже при нем обращается к Нюте: «Он немного похож на Лермонтова… Не правда ли?» (с. 201). Придавая байронический контекст образу юноши, собеседницы сочиняют вымышленного, сильного и дерзкого Володю, и тот страдает от лжи обеих: «И как они могут говорить вслух об этом! <…> Говорят вслух, хладнокровно… И maman смеялась… maman! Боже мой, зачем ты дал мне такую мать?» (с. 201).
Появившаяся среди ночи на пороге его спальни Нюта, занятая поиском какого-то лекарства, показалась Володе «обаятельной, роскошной» и обладающей «чудным телом» (с. 204). После их случайной связи Володя раздавлен и обесценивает образ Анны Федоровны: «Как теперь Володе казались безобразны ее длинные волосы, просторная блуза, ее шаги, голос!..» (с. 205). Нюта, в свою очередь, испытывает отвращение к юноше: «Какой некрасивый, жалкий… фи, гадкий утенок!» (с. 205). Стихия телесности провоцирует негативно-антропологическое восприятие любви в обоих персонажах, и ненормальность этого восприятия, одновременного для них, далее разворачивается в сюжетную метафору «тело – ложь». Наступившее утро, полное солнечного света и звуков «живой жизни», убеждает Володю, что «где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная и поэтическая», но она ему недоступна («Но где она?») (с. 205).
Встреча с Нютой во время завтрака удручает героя. Приехал ее муж – архитектор, и все впечатления от этой пары сплетаются в аффекте отвращения к жизни: «Нюта была в малороссийском костюме, который совсем не шел к ней и делал ее неуклюжею; архитектор острил пошло и плоско; в котлетах <…> было очень много луку <…>. Ему (Володе. – Л. С .) также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала в его сторону, чтобы этим дать понять ему, что <…> она не замечает присутствия за столом гадкого утенка» (с. 205– 206). В первой редакции рассказа Нюта описана более сниженно, причем в первом предложении эксплицируется базовая эмоция Володи: «Володе вдруг стало все невыносимо противно. Нюта была в малороссийском костюме <…> и казалась неуклюжей, топорной бабищей, доктор (в данной редакции – муж Нюты. – Л. С .) говорил пошло и неумно, в котлетах <…> было очень много луку» (с. 535). Причем в этой редакции воспоминание о «малороссийском костюме с турнюром» (соединение простонародной и «дамской» эстетики в наряде
Нюты уже безвкусно и даже пошло) преследует возвращающегося в город Володю наряду с мыслями о грозящем исключении из гимназии (с. 535) 3.
Дальнейшее действие выстраивается как психологический процесс усиления ненависти к себе, матери и всей несостоявшейся жизни юного героя. Сюжетная метафора «тело – ложь» выполняет роль катализатора действия: постоянно ощущая ненависть ко всему, живущему вокруг и помимо него, Володя приходит к мысли о своей исключенности из общего порядка жизни. «Виновато» же, как первичный импульс ненависти, «животное “я”» (Л. Н. Толстой) героя: «Грязные воспоминания, бессонная ночь, предстоящее исключение из гимназии, угрызения совести – все это возбуждало в нем тяжелую, мрачную злобу» (с. 206). Сотрясение собственного нравственного чувства порождает в герое убеждение в общей греховности. Нравственная нечистоплотность матери возмущает его: «Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табак… противно! Я вас не люблю… не люблю!»; «Мне не стыдно своей бедности, но стыдно, что у меня такая мать…» (с. 206). Дорога до дому для Володи мучительна, потому что сопряжена с переживанием стыда и озлобления. Метонимический охват стыда – ненависти позволяет заключить, что в сфере Володиной жизни зло тотально, однако вне ее существует «чистая, благородная, теплая, изящная полная любви» действительность: «Ему не хотелось входить в вагон, так как там сидела мать, которую он ненавидел. Ненавидел он самого себя, кондукторов, дым от паровоза, холод, которому приписывал свою дрожь…» (с. 206).
Дома Володя «некстати» вспоминает свое детство с ныне покойным отцом и жизнь вместе с ним на побережье: «Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение, но это не удалось ему <…>» (с. 207). «Спасения» в детских ощущениях не состоялось; взросление героя рядом с лживой матерью делает для него недоступной ту самую «чистую, благородную» жизнь, которая была открыта для него как альтернативный вариант судьбы.
Володя упрекает свою мать в том, что она постоянно лжет. Та хвалится своим родством с генералом Шумихиным и Лили Шумихиной, урожденной баронессой Кольб: «Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Все это ложь!» (с. 208). «Он знал отлично, что maman говорила правду; в ее рассказе о генерале Шумихине и урожденной баронессе Кольб не было ни одного слова лжи, но тем не менее все-таки он чувствовал, что она лжет» (с. 208). Володя возмущен тем, что фактическая правда не совпадает с правдой нравственной, – стремление казаться не тем, чем ты являешься на самом деле (бедной приживалкой, промотавшей большое состояние), в последовательности всех нравственных испытаний того дня воспринимается им как предел этической терпимости. Именно после этого он удаляется в комнату соседа, случайно находит там револьвер и почти случайно, по крайней мере спонтанно, стреляет в себя.
Н. В. Живолупова, изучая художественную антропологию Чехова переходного периода творчества (1886–1888), приходит к следующему выводу: «Ложь как то, за чем ничего не стоит, как ничто (курсив автора. – Л. С .), вытесняющее подлинные переживания, чувства, мысли и поступки, достаточно трудно <…> отделима от подлинной жизни. Мимикрия под истину позволяет лжи пронизывать все существование человека, смешиваясь с его искренними порывами и, поскольку даже небольшая примесь лжи лишает суждение и поступок их подлинной этической и познавательной ценности, то извращается всё – все попытки выстраивать собственный непротиворечивый образ в глазах других <…>» [2017. С. 51].
Володя оказался в этической ловушке, которую описала исследовательница. Мало того, что подавляющее большинство людей вокруг него лгали или говорили частичную правду, но и не имевшие повода солгать были грубы и бесчувственны к его несчастью (таков, например, куривший «вонючую сигару» и хохотавший над чем-то в момент самоубийства героя Авгу- стин Михайлыч, в комнате которого тот застрелился). Ложь смешалась с правдой, подлинное – с фальшивым. Предсмертное видение покойного отца, который подхватывает Володю и летит вместе с ним в бездонную черную пропасть, возможно, объясняется выделенностью фигуры спасителя-отца из ряда окружавших героя людей. По детским воспоминаниям Володи, отец был светел и искренен.
Душевное смятение Володи происходит как из-за потрясений этического плана (всё дурно и всё ложь), так и по причинам антропологического порядка. Восприятие лжи распространяется на телесную составляющую в персональной структуре образа героя. Упомянутая метафора «тело – ложь» воплощается как в сюжете (настроение любви и влечения к Нюте сменяется отвращением и к предмету влечения, и к любви как таковой, потому что она оказалась плотской и низкой; напудренное лицо матери вызывает гадливость, и т. п.), так и в проекциях душевного состояния на окружающий мир, что блестяще отражено в работах А. П. Чудакова «Поэтика Чехова» (1971) и «Мир Чехова: возникновение и утверждение» (1986) [Чудаков, 2016].
Когнитивная и стилевая связка «человек – вещь» в художественной парадигме А. П. Чехова сопредельна связке «душа – тело». Сложное соположение указанных понятий и их репрезентаций в тексте рассказа позволяет познать внутренний конфликт Володи (дисгармония души и тела) как «антропологическую закономерность» чеховского героя. Частный случай масштабируется, и ему придается универсальное значение.
Таким образом, этическая телеология автора в рассказе «Володя» получила, наряду с сюжетным воплощением и психологической реализацией характеров, антропологическую аргументацию. Подобное построение образа человека во многом определяет своеобразие чеховского героя в зрелом творчестве писателя.
Список литературы Рассказ А. П. Чехова "Володя": этическая телеология в антропологическом измерении
- Живолупова Н. В. Достоевский и Чехов: Аспекты архитектоники и поэтики: Сб. ст. Н. Новгород: Изд-во «Дятловы горы», 2017. 268 с.
- Полоцкая Э. А. О Чехове и не только о нем: Статьи разных лет. М.: [б. и.], 2006. 284 с.
- Спивак Р. С. Чехов и экзистенциализм // Философия Чехова: Материалы Междунар. науч. конф. (Иркутск, 27 июня - 2 июля 2006 г.). Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008. 208 с.
- Чудаков А. П. Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 704 с.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М.: Наука, 1975. Т. 2. 583 с.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М.: Наука, 1985. Т. 6. 735 с.