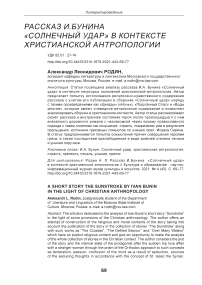Рассказ И.Бунина "Солнечный удар" в контексте христианской антропологии
Автор: Родин А.Л.
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4 (43), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу рассказа И.А. Бунина «Солнечный удар» в контексте некоторых положений христианской антропологии. Автор предлагает попытку истолкования религиозно-нравственного содержания рассказа с учетом его публикации в сборнике «Солнечный удар» наряду с такими произведениями как «Цикады» («Ночь»), «Поруганный Спас» и «Воды многие», которые имеют очевидное религиозное содержание и позволяют анализировать сборник в христианском контексте. Автор статьи рассматривает сюжет рассказа и внутреннее состояние героя после произошедшего с ним внезапного дорожного романа с незнакомкой через призму православного подхода к таким понятиям как искушение, страсть, помрачение ума в результате прельщения, источники греховных помыслов по учению преп. Исаака Сирина. В статье предпринимается попытка осмысления причин совершения героями греха, а также последствий прелюбодеяния в виде крайней степени печали и уныния поручика.
И.а. бунин, солнечный удар, христианская антропология, страсть, прелесть, печаль, уныние, прилог
Короткий адрес: https://sciup.org/144162620
IDR: 144162620 | УДК: 82.01 | DOI: 10.24412/2310-1679-2021-443-69-77
Текст научной статьи Рассказ И.Бунина "Солнечный удар" в контексте христианской антропологии
Рассказ И.А. Бунина «Солнечный удар» – удивительно яркая, достоверная и при этом сжатая история о последствиях, казалось бы, мимолетного романа, случайной близости двух безымянных героев – поручика и молодой замужней женщины, возвращавшейся с отдыха в Анапе в свой город, которые оказались на одном пароходе, идущем вверх по Волге. Композиционной особенностью рассказа является его театральное, драматическое начало: здесь нет вступления, герои сразу оказываются как бы на сцене перед зрителями, жизнь, действие уже идет – и в определенный момент автор поднимает занавес и делает эту жизнь явной. Развитие сюжета стремительное, но сам краткий роман поручика с дамой и расставание с ней занимают лишь около четверти пространства всего рассказа, а большая часть повествования посвящена описанию поведения и внутренних переживаний поручика после произошедшего с ним, значит основное внимание автора сосредоточено не на событии, а на его последствиях для протагониста. То есть в композиции рассказа начинает реализовываться замысел, заключенный в его названии, – сначала с героями происходит стремительный солнечный удар, а затем один из героев, оставшийся на сцене, испытывает долгий период недомогания, боли и переживания его последствий.
Исследуя творчество И.А. Бунина, следует помнить, что как в его лирике, так и в прозе может быть несколько уровней понимания – эту особенность Бунин, вероятно, воспринял от символистов. Произведениям Бунина присущ как внешний, первый уровень – реалистический, так и более глубокие символические уровни. В рассказе «Солнечный удар» эта особенность творческого дара писателя реализована особенно ярко.
Если попробовать удовлетвориться первым, реалистическим уровнем понимания этого рассказа, то перед нами оказывается довольно заурядная история краткого путевого романа и история несчастной, нереализованной любви поручика к «прекрасной незнакомке», любви, зародившейся в нем уже после близости с этой незнакомкой. Близость героев явилась результатом как бы затмения или, по словам этой маленькой женщины, они «оба получили что-то вроде солнечного удара» [1, c.334]. Далее пору- чик, не имеющий никакой возможности вновь обрести свою возлюбленную, поскольку не знает ни адреса, ни даже ее имени, впадает в глубокую печаль, отчаяние и даже отчасти в уныние, и психологическим итогом этого «странного приключения» оказывается чувство поручика, будто он постарел на десять лет. При этом все повествование пронизано образами и деталями, которые вызывают почти физическое ощущение реальности жара, солнца, ослепительного света, измождения от духоты, ослепления, удара, и все эти ощущения подчеркивают трагедию поручика от произошедшего с ним и с незнакомкой «солнечного удара». Но если бы этот уровень понимания был главным и единственным, рассказ не был бы таким ярким. Следует искать более глубокие смыслы.
Когда рассказ «Солнечный удар» был опубликован в рамках одноименного сборника, некоторые критики предприняли попытку поставить вопрос о глубине содержания этого рассказа. Так, Николай Кульман писал в рецензии на сборник, что в связи с этим рассказом возникают вопросы: «Какой внутренний смысл этой картины безудержной страсти? (…) Почему эта неразрешимая мука, для которой при данной обстановке как будто и места не должно было быть?» [5, c.3]. Кульман считает, что И.А. Бунин не дает ответа на эти вопросы, но предполагает, что у Ивана Алексеевича эти ответы возникли уже после создания произведения. Автор рецензии предлагает свою гипотезу, предполагая, что в этом рассказе может быть выражена мысль, что «в любви высшее наслаждение и безысходное страдание связаны потому, что только в страсти любви наиболее остро испытывается радость бытия, самозабвенное слияние с миром и вместе с тем ощущается страшная близость смерти, все разрушающей и тоже все сливающей с миром вечным» [5, c.3].
Представляется, что в этой мысли есть некоторые указатели на возможные пути, которыми нужно следовать для более глубокого осознания рассказа, в частности, следует сделать акцент на словах о «страсти любви» и ощущении «страшной близости смерти». Но Кульман лишь штрихами обозначает проблематику, в то время как друг и коллега Бунина по писательскому цеху Борис Зайцев смотрит более глубоко: ««Солнечный удар» - краткое и густое (как всегда у автора) повествование о страсти, о том, что ослепляет, ошеломляет, о выхождении человека из себя…» [3, c.551]. Зайцев прямо говорит о том, что предметом рассказа является не любовь, как это, вероятно, видят многие современные читатели, а страсть, которая ослепляет, ошеломляет и обусловливает выход человека из себя. Понятие страсти довольно широко. Страсть – «это не поступок, а устойчивое и чрезвычайно сильное влечение человеческой воли к тому или иному греху» [7]. Страсть, с другой стороны, – это греховное состояние человека, это извращение естественной человеческой потребности, в данном случае, потребности в любви. Есть и другое обстоятельство, другой ключ к этому рассказу, который дает читателю сам Бунин.
Вспомним, что рассказ «Солнечный удар» выходит в свет в рамках одноименного сборника в Париже в 1927 г. Помимо ряда других рассказов о любви в этом сборнике опубликованы произведения «Воды многие», «Цикады» и «Поруганный Спас». Особое внимание нужно обратить на произведение «Воды многие», которое представляет собой серию дневниковых путевых записей, наполненных глубокими размышлениями автора о Боге, Его величии. В первых главах рассказа автор размышляет о заповедях Господних и удивляется их простоте и величию, перечисляя некоторые из них: «Аз есмь Господь Бог твой… Помни дни Господин… Чти отца и матерь твою… Не делай зла ближнему твоему… Не желай достояния его…» - и далее: «не пожелай дома ближнего твоего, ни жены его, ни раба его, ни осла его…» [2, c.26]. Оканчивается произведение утверждением сыновьей любви, верности и благодарности автора записок своему Богу и Творцу: «И я был в страшной и сладкой близости Твоей, и безгранична моя любовь к Тебе, и крепка вера в родимое, отчее лоно Твое! (…) Как мне благодарить Тебя?» [2, c.26].
Случайна ли публикация этого произведения в одном сборнике с рассказом «Солнечный удар»? Представляется, что нет. Цитирование автором десятой заповеди о недопустимости даже желать того, что принадлежит ближнему, в том числе «жены его», подводит ко второму, более глубокому плану всей любовной прозы Бунина. Итак, автор обращается к заповедям, к Библии, к Богу и соотносит человеческое бытие с величием Божьего промысла. В этом контексте анализ произведений Бунина через призму библейских основ оказывается не просто возможным, но и вполне оправданным. Синайские заповеди, запрещающие даже желать чужой жены и прелюбодействовать являются продолжением и развитием пророчества Адама, которое он по вдохновению от Бога изрек еще в раю, когда он увидел сотворенную из ребра его жену: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть» (Быт. 2:24). Пророчество Адама – это первооснова, фундамент, на котором должны строиться отношения между мужчиной и женщиной: это неразрывный духовный и телесный союз, в котором двое становятся одним существом, каждый в этом союзе любит другого как самого себя, мыслит о другом как о части себя – два «я» превращаются в «мы». Очевидно, что всякое разделение единой плоти влечет за собой страдания, боль, тление и в конечном итоге смерть. В рассказе «Солнечный удар» можно прочесть наглядный пример нарушения заповедей о недопустимости прелюбодейства, увидеть причины развития в человеке блудной страсти и разрушительные последствия ее реализации.
В рассказе «Солнечный удар» раскрывается тема прельщения, прило-гов1, которая является сквозной для подавляющего большинства произведений Бунина, посвященных любви: героиня «засмеялась простым прелестным (курсив мой – А.Р.) смехом, - все было прелестно в этой маленькой женщине…» [1, c.334]. В современном русском языке слова «прелесть» и «прелестный» не имеют очевидной отрицательной коннотации, в то время как, например, словарь Даля предлагает следующие толкования: «Прелестный – прельщающий, привлекательный, пленительный, обворожительный, обольстительный» [8].
Первый этап искушения (прилог) остается за кулисами, читатель встречает героев уже на более поздних этапах развития греха в человеке. В самом начале повествования поручик и молодая женщина прельщаются друг другом, к примеру, очевиден момент сочетания и пленения поручика блудными помыслами в момент, когда он целует руку своей спутницы: «Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замирало сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежанья под южным солнцем (…) Поручик пробормотал (курсив мой – А.Р.): – Сойдем!» [1, c.334]. Важно, что И.А. Бунин использует слово «пробормотал» – это свидетельство того, что поручик находится в возбужденном, воспаленном состоянии ума, не способен управлять даже собственной речью. Далее – краткие мгновения такого этапа развития греха в человеке, как борьба с искушением, когда человек еще может остановиться: незнакомка спрашивает поручика: «Куда? (…) Зачем?», думает о том, что им предстоит и вслух называет это сумасшествием, но затем, теряя силы сопротивляться искушению, отвечает: «Ах, делайте, как хотите…» [1, c.334]. Это этап пленения прилогом, после него совершение греха уже неизбежно, если только сторонние силы не станут для этого препятствием.
Впервые в этом диалоге она называет то, что происходит между ними, сумасшествием. Позже, на следующее утро она ведет себя уже рассудительно и называет случившееся с ней затмением, а затем поправляет себя: «или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара…» [1, c.335]. В данном случае сумасшествие, затмение и солнечный удар – это синонимы, призванные описать, что герои не отдают себе полного отчета в том, что они совершают, не могут направлять собственную волю к тому, чтобы избежать фатальной ошибки, греха. Значит, их волей в этом деянии соруководит сторонняя инфернальная сила – падший ангел, который поражает разумную силу человека и распаляет его желания.
Отдельная причина, способствующая совершению блудных грехов, – опьянение. Вспомним слова апостола Павла: «Не упивайтесь вином,
¹ Эта тема в русской классической литературе активно исследуется А.Н. Ужанковым [9-12].
от которого бывает распутство» (Еф. 5:18). Знакомство поручика и незнакомки к моменту начала рассказа длится три часа, рассказ начинается с того, что они выходят из ярко и горячо освещенной столовой на палубу корабля, и героиня признается: «Я, кажется, пьяна…» [1, c.335]. Флирт, вольности приводят людей к опьянению нравственному, вино – к опьянению телесному, а итогом этого становится легкое прельщение греховными помыслами.
Подтверждение этим словам можно найти и у современных православных психологов: «человек перестает находиться в реальности, он попадает под их [бесов] влияние, что можно уподобить гипнозу, опьянению или дурману. В этом состоянии человек воспринимает вещи не такими, какие они на самом деле есть, а в извращенном виде: то, что для него вредно и губительно, он принимает за верх счастья…» [6]. Именно это и происходит с героями рассказа – оба, вероятно, понимают, что совершают преступление – преступают Божью заповедь, но в силу опьянения душевных чувств и тела преступление выглядит счастьем, а грех желанным.
Что произошло между ними в духовном плане? Прелюбодеяние в духовном отношении представляет собой кражу, похищение у ближнего того, что принадлежит ему, что является частью его. Героиня и ее муж, в духовном плане являют собой целое, одну плоть. Поступок поручика и незнакомки губят эту духовную общность, рвут единую плоть. При этом как в браке соединение полов влечет их единство, так и в блуде происходит то же самое: «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней?» (1Кор. 6:16). Таким образом, происходящее между героями – это не любовь, а напротив, преступление против любви, татьба.
Грех вначале действительно кажется сладким: герои проводят вместе ночь, затем как-то очень легко расстаются, без боли, без осознания вины, без особого сожаления: поручик провожает свою спутницу на корабль, затем легко и беззаботно возвращается в гостиницу. И вот тут с поручиком начинают происходить странные изменения – он замышлял связь с незнакомкой как некое «дорожное приключение», и вот ее нет, а ему становится тяжело, мысль о том, что он уже никогда не увидит свою недавнюю любовницу ошеломляет героя, он ощущает «такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние» [1, c.335]. Поручик ощущает появление нового, странного и непонятного чувства в себе, чувства, которого не было в нем, пока герои были вместе. Позже поручик, размышляя, понимает, что его сердце «поражено» «страшным «солнечным ударом», слишком большой любовью, слишком большим счастьем» [1, c.335]. Но действительно ли это любовь? И счастье ли это?
Вспомним, что люди, совершая блуд или прелюбодеяние, также сочетаются между собой, образуя некое греховное единство плоти. После рас- ставания с незнакомкой это порочное единство снова разрушено, часть отторгнута от целого, поэтому страдания поручика объяснимы и, более того, закономерны. Но это новое чувство не любовь в том высоком смысле, о котором говорит Адам или апостол Павел, эта любовь – является тоской по незаконно обретенному и тут же утраченному единству с незнакомкой. А в силу беззакония этих отношений, такая «любовь» просто обречена на страдание. Это воплощение духовного закона – что посеешь, то и пожнешь: посеешь целомудренную любовь – обретешь благо, посеешь страсть – обретешь страдание. Важно отметить, что отношение поручика к незнакомке эгоистично: любовь истинная воплощается в желании блага в первую очередь для возлюбленного, поручик же любит не саму незнакомку – он мечтает о собственном счастье с ней, и это вовсе не любовь, а мучительное упоение собственным влечением и печаль – греховное состояние человека, возникающее от утраченной возможности обладания объектом вожделения и удовлетворения страсти.
Поручик, совершая беззаконие, уподобляется первому земному преступнику – Каину. Как Каин не находит успокоения на земле, так и поручик, после того, что с ним произошло, ощущает полную отчужденность от мира – вокруг жизнь идет своим чередом – счастливая, полная, во всем окружающем «безмерное счастье, великая радость (…), а вместе с тем сердце просто разрывалось на части» [1, c.335]. Мир для поручика становится опустевшим и безмолвным, чуждым, враждебным ему, как земля Каину: «все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем (…) И поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад» [1, c.335].
Показательно, как смотрит он с завистью и болью на чету новобрачных на фотографии в витрине фотомагазина – эта зависть в каком-то смысле тоже сродни зависти Каина к Авелю: поручик наблюдает блаженство людей, которые имеют на него некое духовное право, их союз благословлен Богом, а счастье поручика незаконно, невозможно. Преступление поручика не проходит для него бесследно – он чувствует себя постаревшим на десять лет.
Состояние поручика находится где-то на грани двух страстей – печали и уныния. Печаль обусловлена потерей своей незаконно приобретенной половины – возлюбленной, с которой он стал неким преступным целым, а уныние выражается в том, что поручик становится неспособным воспринимать красоту, радость, жизнь вокруг, оказывается оторваным от источника жизни – Бога. Повествователь подчеркивает, что с жизнью, с миром ничего не произошло – в церкви поют громко и весело, с чувством исполненного долга, на рынке бойко торгуют, а поручику все это чуждо.
Судя по деталям рассказа, это «дорожное приключение» произошло с героями в ночь субботы на воскресение, поскольку «прекрасная незнакомка» уезжает из гостиницы в десять часов утра, и это было утро «со звоном церквей, с базаром на площади» [1, c.336], то есть воскресный праздничный день с литургиями во всех церквах – это еще одно тонкое, подспудное свидетельство того, что произошедшее – не просто рядовой случай, а грех, преступление, нарушение заповеди Божьей. Седьмой день должен быть посвящен Богу, а герои Бунина посвящают его греху.
Грех поручика порождает в нем новые страстные (греховные) состояния – печаль и уныние, и он мучается от них, но не предпринимает никаких усилий, чтобы побороть их, не имеет и намека на покаяние – напротив, рассказчик подчеркивает, что память о грехе сохранили на многие годы оба героя: «оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за свою жизнь ни тот, ни другой» [1, c.336].
Преподобный Исаак Сирин, перечисляя, от чего возникают прилоги (искушающие помыслы), называет среди прочего прежние впечатления – то есть то, что хранится в памяти человека: «[…] в-третьих, от предзанятых понятий и от душевной склонности, какие человек имеет в уме» [4, c.45]. Это воспоминание сладости греха, к несчастью, действительно въедается в душу человека и мучает его подчас до конца жизни, а нередко становится тем самым прилогом, который возвращает человека к его прежним грехам или становится причиной совершения новых: «Если памятование доброго, когда приводим это себе на мысль, обновляет в нас добродетель, то явно, что и памятование распутства, когда припоминаем о нем, обновляет в уме нашем срамное пожелание» [4, c.172].
Судьба героев Бунина складывается по законам жизни духовной – оба страдают, но выбор прекрасной незнакомки из «Солнечного удара» оказывается, тем не менее, разумным и честным. Что значит ее фраза, что все будет испорчено? Будет испорчено приятное воспоминание о дорожном приключении? Нет, незнакомка говорит поручику, что их близость – это то, что с нею произошло в первый и последний раз. Значит, испорчено будет все – вся жизнь и поручика, и этой маленькой женщины, у которой есть муж, дочь, которая по причине временного «затмения», «солнечного удара» поддалась искушению и пала. Таким образом, герои «Солнечного удара» расплачиваются за свое краткое незаконное счастье быть вместе, но решение героини оборвать это порочное падение в определенном смысле является спасительным для обоих, в противном случае их жизни, семья незнакомки – все могло бы быть разрушено.
Таким образом, можно обоснованно говорить о том, что вторым, более глубоким пластом содержания рассказа И.А. Бунина «Солнечный удар»
является действие духовных законов в жизни человека, и это действие запечатлено автором удивительно ярко и достоверно.
Список литературы Рассказ И.Бунина "Солнечный удар" в контексте христианской антропологии
- Бунин И.А. Солнечный удар// Полное собрание сочинений в XIII томах. Том 4. Москва, 2006. 490 с.
- Бунин И.А. Солнечный удар// Полное собрание сочинений в XIII томах. Том 3. Москва, 2006 г. 490 с.
- Зайцев Б. Солнечный удар. Рецензия// Современные записки. Париж: Родник, 1927. №30. С. 551.
- Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2008. 632 с.
- Кульман Н. «Солнечный удар» Ив. Бунина// Возрождение. 1927. №611. С. 2-3.
- Легостаева Марина. Современные аспекты блудной страсти. Взгляд психолога// URL: https://azbyka.ru/sovremennye-aspekty-bludnoj-strasti-vzglyadpsixologa#7 (дата обращения: 19.11.2021).
- Ткаченко А. Грех, с трасть, порок: в чем различие и как с ними бороться. // URL: https:// https://azbyka.ru/greh-strast-porok-v-chem-razlichie-i-kak-s-nimiborotsya (дата обращения: 19.09.2021).
- Толковый словарь живого великорусского языка / Владимир Иванович Даль: в 4 Т- Т.3: П.-М.: РИПОЛ классик. 2006. 544 с.
- Ужанков А.Н. «Мысленная брань» в повести «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина // Русский язык за рубежом. 2017. № 2. С.51-56.
- Ужанков А.Н. Учение о прилоге как духовная основа художественного образа Анны Карениной // Новый филологический вестник. 2017. № 2. С. 89-100.
- Ужанков А.Н. Е ще р аз о « луче с вета в т емном ц арстве» ( О д раме А.Н. Островского «Гроза») // Новый филологический вестник. № 4. 2017. С.179-190.
- Ужанков А. Н. Святоотеческое «учение о прилоге» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. С. 172-189.