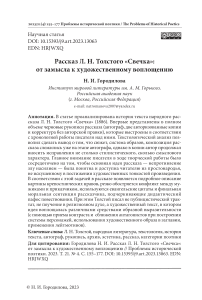Рассказ Л. Н. Толстого «Свечка»: от замысла к художественному воплощению
Автор: Городилова Н.И.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована история текста народного рассказа Л. Н. Толстого «Свечка» (1886). Впервые представлены в полном объеме черновые рукописи рассказа (автограф, две авторизованные копии и корректура без авторской правки), которые выстроены в соответствии с хронологией работы писателя над ними. Текстологический анализ позволил сделать вывод о том, что сюжет, система образов, композиция рассказа сложились уже на этапе автографа, однако в копии автор продолжал вносить исправления не столько стилистического, сколько смыслового характера. Главное внимание писателя в ходе творческой работы было сосредоточено на том, чтобы основная идея рассказа - непротивление злу насилием - была понятна и доступна читателю из простонародья, не искушенному в постижении художественных тонкостей произведения. В соответствии с этой задачей в рассказе появляется подробное описание картины крепостнических нравов, резко обостряется конфликт между мужиками и приказчиком, используются евангельские цитаты и финальная моральная сентенция рассказчика, подчеркивающие дидактический пафос повествования. При этом Толстой писал не публицистический трактат, не поучение в религиозном духе, а художественный текст, в котором идея воплощалась различными средствами образной выразительности (с помощью приема контраста и сближения антагонистов при построении системы персонажей, использования художественного образа в заглавии, применения лейтмотивов).
Л. н. толстой, народная литература, текстология, история текста, автограф, рукопись, архив, эстетика, рассказ, категории поэтики
Короткий адрес: https://sciup.org/147242330
IDR: 147242330 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13063
Текст научной статьи Рассказ Л. Н. Толстого «Свечка»: от замысла к художественному воплощению
Н ародные рассказы Л. Н. Толстого имеют давнюю традицию изучения. Устойчивый интерес исследователей к произведениям 1880–1890-х гг. вполне объясним — они стали важной вехой в творческой биографии писателя, отразив глубокий мировоззренческий кризис, пережитый им в конце 1870-х — начале 1880-х гг. Признав образ жизни своего сословия — «богатых, ученых» — ложным и бессмысленным, Толстой нашел нравственный идеал в действиях «трудящегося народа, творящего жизнь»1. Желая отплатить «за свои 50-летние харчи»2, т. е. за привилегированную, «барскую» жизнь, писатель обратился к созданию произведений, которые были «не столько повествованиями о народе», сколько «сказаниями "из народа"», выражавшими его миросозерцание, философию [Лученецкая-Бурдина: 119].
«Новый» взгляд на искусство3 автор сформулировал в письме к начинающему крестьянскому писателю Федору Федоровичу Тищенко, выходцу из Харьковской губернии: «Направление ясно — выражение в художественных образах учения Христа, его 5 заповедей; характер — чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщине, ребенку, и чтоб и тот, и другой заинтересовались, умилились и почувствовали бы себя добрее» ( Толстой, Письма ; т. 63: 326). Ориентация на нового читателя — простого, неинтеллигентного человека, преимущественно крестьянина — и проповедь истинного смысла жизни, понятого в религиозно-нравственном духе, определили идейно-худо жественное св оеобразие народных рассказов Толстого.
Простота композиции, которая «как бы "лубочна"» [Арденс: 416], отказ от метода «диалектики души» в создании характеров, внесение в повествование элементов легендарно-сказочного начала, дидактический пафос, сочетание реального и условнофантастического, конфликт между «художественным» и «полезным», обращение к различным литературным, житийным и народным источникам сюжетов, использование евангельских цитат в качестве скрытого авторского комментария, ритмикоинтонационный рисунок сказа — на эти и многие другие черты, отличающие произведения Толстого 1880–1890-х гг., неоднократно указывали специалисты (см., напр.: [Кущенко], [Храпченко]). Наша задача — осмыслить народные рассказы в свете истории их написания, или, образно выражаясь, постичь «эзотерический язык творчества» [Бабаев: 360], т. е. пройти путь текстолога, который имеет дело не с результатом творческого акта, а его процессом, видит «внутренние помещения, фундамент», а не только «наружный облик строения» [Громова-Опульская: 459].
Обращение к черновикам народных рассказов позволяет сделать вывод о том, что принципы работы Толстого с текстом остаются неизменными на протяжении всей его жизни: он «по своей всегдашней привычке перемарывает и переделывает без конца»4 почти каждое свое произведение, стремясь к тому, чтобы «не сказать ничего лишнего» ( Толстой, Письма ; т. 74: 220). С этой точки зрения, не имело никакого значения, для кого оно предназначалось — для интеллигенции ли, для грамотного ли мужика… Напряженный труд сопровождал написание не только «Войны и мира» или «Анны Карениной», но и небольших по объему народных рассказов 1880-х гг. Скажем, рукописный фонд рассказа «Чем люди живы», объемом примерно в 20 страниц, составляет 244 л.; рассказа «Три старца», занимающего около 6 страниц, — 37 л.; рассказа «Зерно с куриное яйцо» — 14 л. И этот листаж не включает обороты, хотя Толстой чаще всего исписывал ли ст с обеих сторон.
Н. К. Гудзий, подготовивший для Полного собрания сочинений писателя в 90 т. (юбилейное издание) не один текст, справедливо отмечал: «Толстой очень много напечатал, но во много раз больше написал, почти всегда предваряя окончательный текст длинной цепью черновых набросков, приступов, редакций. Ему не жаль было ни затраченного труда, ни времени, когда то, что вышло из-под пера, не удовлетворяло его авторской взыскательности, и он безжалостно отбрасывал сделанное, чтобы делать заново» [Гудзий: 184]. Неслучайно Толстой, говоря о писательском труде, часто обращался к метафорическому выражению о просеивании золота. Известны его высказывания на эту тему в разные годы. Так, например, П. Д. Боборыкину в 1865 г. по поводу его романов «Земские силы» и «В путь-дорогу» Толстой советует: «Вы пишете слишком небрежно и поспешно, не выбрасываете достаточно из того, что написано (длинноты), недостаточно употребляете тот прием, который для эпика-прозаика составляет всю премудрость искусства — недостаточно просеваете песок, чтобы отделять чистое золото» ( Толстой, Письма ; т. 61: 100). Этот же совет он давал и И. Б. Файнерману в 1895 г. ( Толстой, Письма ; т. 68: 261), и И. Ф. Наживину в 1902 г. ( Толстой, Письма ; т. 73: 340), и многим-многим другим.
Рассказ «Свечка» был сравнительно «легко» написан Толстым, текст не имеет редакций, отличающихся кардинальной сменой авторского замысла или масштабной стилистической правкой, но при этом в рукописном фонде рассказа сохранилось несколько черновиков. Наблюдения над почти ювелирной работой автора с рукописями, с одной стороны, помогают оценить его стилистическую чуткость, часто связанную со стремлением заменить литературный вариант слова на его народный эквивалент, с другой — дают возможность задуматься над смысловым характером вносимых исправлений.
Рассказ был написан не позднее июня 1885 г. Источником сюжета стала история, рассказанная Толстому пьяными мужиками, с которыми ему «пришлось ехать из Тулы»5. В воспоминаниях учителя детей Толстого И. М. Ивакина есть запись слов писателя: «Он <рассказ> мне понравился именно своею грубою простотою — так и пахнет мужицкими лаптями!»6.
Сохранились три рукописи, с одной из которых была сделана корректура, и письмо Толстого к В. Г. Черткову от 11 ноября 1885 г., содержащее вариант финала: всего 37 листов, заполненных с обеих сторон [Описание рукописей: 281–283]. Первая рукопись представляет собой автограф7, по словам В. И. Срезневского, написанный в один прием, «судя по бумаге, почерку и чернилам» [Срезневский: 712]. Добавим, что свидетельствует об этом и сам характер работы. Немногочисленные исправления — зачеркивания отдельных слов и предложений, вписывания между строк, перестановка двух фрагментов — свидетельствуют, что случайно услышанная история действительно очень понравилась писателю, и он легко перенес ее на бумагу. Уже в автографе формируется общий рисунок сюжета (мужики замышляют убить злого приказчика, замучившего их работой); придумывается яркий финал (смерть как наказание за зло [Жданов: 60]); определяются характеры героев (противопоставляются две жизненные позиции: один мужик подстрекает на преступление, другой — призывает к терпению и смирению); главная мысль закрепляется в названии («Мне отмщение и Аз воздам») и выражает излюбленную мысль автора («непротивление злу насилием»); фантастика лишается символического подтекста и приобретает назидательный характер («чудесный» эпизод с негаснущей при ветре свечой как доказательство правоты Петра).
Но за автографом следуют еще две авторизованные копии, свидетельствующие о продолжении работы над рассказом. Вторая рукопись (по общему счету) — это копия, выполненная С. А. Толстой с автографа8; многие листы ее отражают многочисленную авторскую правку: это и большие вставки на полях, и вписывания между строк, заменяющие иногда значительные фрагменты зачеркнутого текста. С этого черновика снял копию Александр Петрович Иванов. Третья по счету рукопись9 — самая большая по объему — 14 л.: переписчик сделал большие пробелы между строками и оставил широкие поля, давая Толстому место для внесения правки. Исправления в ней неоднородные: некоторые листы остались почти чистыми, другие — подверглись существенной переделке. Уже беглый просмотр внешнего вида рукописей свидетельствует об интенсивности творческих поисков автора. При этом, повторим, содержание рассказа, последовательность эпизодов, круг действующих лиц и их характеры — все это остается без изменений от рукописи к рукописи. Чего же искал Толстой?
Писатель редко заботился «об обычном приглаживании <…> стиля», он добивался, чтобы «выражение соответствовало в наибольшей степени замыслу, чтобы образ, картина, мысль стали ясны и ощутимы не только для автора, но и для читателя, которого он никогда не упускал из виду в процессе своей творческой работы» [Гудзий: 185–186]. Особую ответственность Толстой чувствовал перед читателем из народа. М. Е. Салтыкову-Щедрину он признавался, что, работая для людей своего круга, представляет себя «в халате, спокойным и развязным», работая же для миллионов простых читателей, испытывает «робость и сомнение», зная, что они будут «читать так, как они читают, ставя всякое лыко в строку» ( Толстой, Письма ; т. 63: 307). Трудность состояла прежде всего в том, что Толстой теперь имел дело с читателем, не искушенным в истолковании художественных произведений. И к колоссальной работе над слогом, приближающей повествование «к стилю живой разговорной речи крестьянина» [Кущенко: 55], прибавлялась особая забота о стройности композиции, смысловой прозрачности сюжета, типичности изображенных характеров, ясной содержательности диалогов, играющих важную роль в раскрытии главной идеи произведения.
Анализ рукописного материала позволяет выделить несколько важных направлений в работе автора над текстом. Прежде всего, уточняются характеры главных героев — читатель должен был верно судить о них. Приказчик уже в автографе получает однозначно негативную оценку: он злой, жадный, жестокий. И новые штрихи лишь усиливают эту характеристику.
Во второй рукописи картина злодеяний приказчика обрастает бытовыми подробностями. Общая фраза автографа (приказчик «стал мучить народ»10) заменяется вписанным на полях подробным рассказом о действиях Михаила Семеныча (спрашивает лишние работы с мужиков и баб, заводит для наживы кирпичный завод), о походе мужиков в Москву с жалобой на притеснителя. Еще больше, в сравнении с автографом, подчеркивается злоба приказчика, которого народ боялся «как зверя лютого» (вписано)11; фраза автографа: «…все от него хоронятся, как от волка»12 исправлена на: «…все от него, как от волка, прочь бегут — кто куда попало, только бы не встре-чаться»13.
И в третьей рукописи появляются новые подробности жестокости Михаила Семеныча. «Еще хуже стало житье мужикам» после их обращения к помещику с жалобой на Михаила Семеныча14; мужики сетуют: «Изведет он нас до корня», «Ни дня, ни ночи отдыха нет» — и вспоминают о Семене, запоротом до смерти15. Если в предыдущей копии рассказано, что крестьяне собираются в овраге, возмущенные прошедшим слухом о работе в Святой праздник, то теперь слух заменяется прямым приказом готовить сохи пахать под овес. Конфликт приказчика с мужиками постепенно приобретает все более острый и напряженный характер. Усиливает эффект этого противостояния контраст в положении героев. В автографе Толстой очень лаконично описал горе мужиков:
«В церкви благовестят к ранней обедне, народ везде праздник справляет, мужики пашут»16.
Скупое повествование подчеркивает драматизм создавшейся ситуации, это описание дойдет до завершенного текста без изменений.
А в изображение праздничного дня приказчика, наоборот, вводятся все новые и новые детали. Лаконичная картина автографа (сладкая водочка, песня под гитару) уточняется в копиях. Во второй рукописи новые подробности — вишневая наливка, сладкий пирог, песни под гитару с кухаркой17 — создают атмосферу довольства и благополучия. В третьей рукописи Толстой описывает, как поел приказчик «студню, пирога, лапши молочной, поросенка с кашей», сидит «с веселым духом, отрыгивается, на струнах перебирает и с кухаркой смеется»18. «Элементы натурализма», введенные художником [Андреева: 66], помогают создать образ не просто материально благополучной, но отталкивающе «сытой», «животной» жизни приказчика, погруженного в состояние внутреннего довольства и спокойствия и упоенного своей безнаказанностью.
Помимо злобы, жестокости в характере Михаила Семеныча, писатель обращает внимание на еще одну важную черту его поведения. В автографе читаем, что ропот мужиков и упреки в адрес приказчика, заставившего их своей властью работать в Светлый праздник, вызывают в нем чувство радости. Дважды об этом пишет Толстой, но, не удовлетворившись созданным эффектом, вносит еще несколько ремарок:
«Засмеялся М<ихаил> С<еменыч>»; «Обрадовался М<ихаил> С<еменыч>, захохотал даже»19.
Во второй рукописи видим подобного же рода правку. Если в автографе просьбы жены отпустить мужиков с поля в честь святого дня рассердили Михаила Семеныча («ткнул» ее трубкой с огнем, прогнал от себя20), то в копии — сначала вызвали смех. И далее писатель, вписывая наречие «пуще», снова подчеркивает: чем больше злятся и ругаются мужики, тем «пуще радуется» приказчик21. На полях фиксируется фраза о том, что Михаил Семеныч «придумывает, как он им вымещать будет за их речи»22.
От рукописи к рукописи в образе Михаила Семеныча не просто усиливается отрицательная характеристика — в нем настойчиво подчеркивается бесовское начало. Злорадный смех приказчика объясняется в духе религиозно-христианской традиции: его радость обусловлена не только наслаждением от страданий мужиков (здесь, скорее, психологический аспект раскрытия образа), но и его победой над душами мужиков, для которых он становится искусителем, соблазнителем на грех. Неслучайно Толстой настойчиво подчеркивает, что особую радость у Михаила Семеныча вызывают угрозы мужиков расправиться с ним. Радость приказчика связана с тем, что он одолел мужиков, соблазнил на зло: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21).
Авторская правка, направленная на усиление отрицательного начала в характере приказчика, имела значение не только для создания колоритного образа злодея, но и для раскрытия основной мысли рассказа. По сути, активно выделяя злое начало в приказчике, Толстой подводит читателя к очень опасной мысли: ненависть крестьян, окончательно решившихся расправиться с мучителем, получает психологическое оправдание. Интересна с этой точки зрения работа писателя над сценой встречи мужиков в овраге накануне праздника (позднее: у Василья на задворке23). В автографе остается не проясненным, почему именно сейчас крестьяне все-таки решились на страшный поступок. Ясность появляется на этапе копии. Толстой вписывает фразу, объясняющую особое возмущение народа: проходит слух о том, что приказчик хочет послать мужиков работать на Святую, и «обидно это показалось» им24. В автографе слух о работе в праздник тоже есть (в самом конце гневной речи Василия о злодеяниях приказчика), но он теряется в общем потоке его обличений. Теперь о слухе читатель узнает от лица рассказчика, именно слух и собирает мужиков вместе. Кощунственный приказ Михаила Семеныча провоцирует крестьян на решительный шаг, став последней каплей их терпения. Но Толстой, предваряя возможные читательские выводы, неожиданно сближает мужиков с ненавистным приказчиком. Неслучайно одним из ведущих для раскрытия идейного смысла рассказа становится мотив греха, он проходит лейтмотивом через все повествование и связывается не только с образом приказчика.
В автографе Василий спрашивает у Михеича:
«Что ж разве меньше грех будет, как в Хр<истов> праздник все работать пойдем?»25.
Этот вопрос дойдет и до основного текста. Во второй рукописи у пашущего со свечкой Михеича спрашивает староста:
«…грех-то какой, дядя Петра, — на Святой пахать»26.
В третьей рукописи вопрос старосты Толстой вложит в уста подшучивающих над Михеичем мужиков:
«…Михеич ввек греха не отмолит, что он на Святой пахал» (так это и будет позднее напечатано)27.
В автографе, а затем и во всех копиях, жена обращается к Михаилу Семенычу со словами:
«…не греши ты, отпусти ты мужиков»28.
Действия приказчика получают однозначную оценку, но при этом, начиная со второй рукописи, Толстой открывает речь Петра Михеева, обращенную к мужикам, словами:
«Грех вы, братцы, великий задумали»29.
Эта фраза Михеича дойдет до основного текста. Так писатель сближает задумавших убийство мужиков с приказчиком, чтобы подвести читателя к мысли: во всех них сидит грех. И добрый мужик своей кротостью и смирением противопостав лен не только Михаилу Семенычу, но и своим же крестьянам.
Образ Петра Михеева как выразителя главной идеи рассказа имел исключительную важность для автора. Уже в автографе Михеич рисуется как носитель доброго начала, эта оценка останется неизменной до окончания работы с текстом.
Впервые герой появляется в сцене встречи мужиков в овраге накануне Пасхи — одной из ключевых в рассказе: спор между сторонником «непротивления злу насилием» Петром Михеевым и призывающим извести злодея Василием Минаевым отражает две жизненные позиции. Обоим героям-антагонистам дана «вся сила слова» [Чичерин: 115], но по-разному выраженная. Речь Василия более эмоциональная и зажигательная, требующая активного действия, но при этом образная: он сравнивает приказчика с бешеной собакой, струсивших мужиков — с воробьями, спрятавшимися от ястреба. Кажущаяся убедительность его слов в том, что злое дело он представляет подвигом, спасением добрых людей от злодея:
«Грех человека доброго убить, а такую собаку и Б<ог> велел»30; «…а слюни-то распусти, он всех перепорет»31.
Речь Петра Михеева отличает своеобразный сплав рассудительности и афористичности [Ломакина: 82–83], крестьянской грубоватости и образности:
«Огонь огнем не потушишь»; «Ну выпорет он меня понапрасну, он мне ж… порет, а себе душу»; «Не нам его судить, а Богу…»32.
В этом диалоге-споре нет победителя, поэтому и не смогли договориться мужики: рассудительная правильность Петра столкнулась с эмоциональным напором Василия.
Во второй рукописи писатель значительно переделывает речь доброго героя, обращенную к мужикам. Правда, содержательная суть ее не меняется, но слова Петра теперь точно определяют замышленное мужиками преступление. В автографе речь Михеича начиналась так:
«Не поможете вы, братцы, делу злом. Огонь огнем не поту-шишь»33.
В новом варианте первая же его фраза называет факт:
«Грех вы, братцы, великий задумали»34.
Вписывая фразу за фразой, Толстой настойчиво выделяет главную мысль: преступление губит душу. Предположительное предложение автографа: «…как бы своей души не убить»35 — заменяется утверждением: «А человека убьешь, душу себе окровянишь»36. Речь Михеича становится убедительнее и вызывает соответствующую реакцию мужиков. Если в автографе написано, что после его слов они «разбились», «не дали согласья»37, «не договорились»38, то в рукописи первая реакция мужиков на слова Михеича иная: они признали его «правду» и согласились, что «великое дело — человека убить»39.
Убедительность речи Михеича, заметно усиленная во второй рукописи в сравнении с автографом, обусловлена некоторым изменением в изображении характера доброго крестьянина. Посмотрим на эпизод пахоты на праздник. В нижнем слое автографа сказано, что Петр, «веселый, радостный»40, пашет со свечкой, закрепленной «на колодке промеж обжей»41. Как ни выпытывал староста, что он думает о приказчике, ничего выпытать не смог: Михеич «на все радуется, за все благодарит»42. Новый, вписанный между строками, вариант содержит прямую речь мужика, спрашивающего, хорошо ли Михаил Семеныч праздник встретил, и отвечающего на утвердительный ответ старосты: «Ну, говорит, слава Б<огу>. Всем людям радоваться надо»43. Автор обращает внимание на смирение мужика: он не просто на все радуется, а с кротостью и добром спрашивает про пославшего его на работу приказчика и отсылает к Светлому празднику, который радость для всех и в любых условиях. Незначительная, казалось бы, правка позволяет создать яркий контраст в поведении двух героев: безропотность доброго мужика, который с молитвой в сердце работает и в праздник, и злоба приказчика, радующегося своей неограниченной власти.
Во второй рукописи эпизод уточняется. Во-первых, разговаривая со старостой, Петр Михеев уже не спрашивает про приказчика, он внутренне сосредоточен на себе, на произносимых про себя молитвах («поет стихи воскресные»)44, а на слова старосты: «…грех-то какой, дядя Петра, — на Святой пахать» — отвечает примирительно: «На земле мир, в человецех благово-ление»45. В нем видится уже не добродушие, а достоинство человека, сумевшего преодолеть злые чувства, отстраненность от земной суеты.
Во-вторых, писатель настойчивее привлекает внимание читателя к свечке. Сравним, как в автографе и авторизованной копии староста рассказывает о добром мужике. В автографе:
«Подъехал ближе, смотрю свечка восковая 5-ти копеечная приклеена к колодке. А он в новой рубахе ходит, пашет и заворачивает, а свечка горит. Подъехал я к нему вплоть, он на краю соху заворачивает, отряхает, а свечка не тухнет»46.
И далее:
«Так я уехал от него, все свечка горит»47.
В копии:
«Подъехал ближе, смотрю, свечка восковая 5-ти копеечная приклеена к колодке и горит, и ветром не задувает . А он в новой рубахе ходит, пашет, и поет стихи воскресные, и заворачивает, и отряхает, а свечка не тухнет. Отряхнул он при мне , переложил палицу, завел соху, все свечка горит, не тухнет »48.
И далее:
«Так я и уехал от него, ничего мне худого не сказал. Все поет, а свечка горит, не тухнет »49.
Интересно, что Толстой вписывает двойные фразы: не просто «горит», а «не тухнет». Так акцентируется «чудо», которое уже не может не повлиять на приказчика. Неслучайно, что здесь, в копии, он более эмоционально реагирует на рассказ старосты. Предложение автографа:
«Перестал приказчик спрашивать, побелел весь и схватился за голову»50, — меняется на:
«Ахнул приказчик, бросил гитару, опустил голову и побелел как полотно»51.
В автографе Михаил Семеныч осознает: «…пропал я теперь», — но, посидев-посидев, едет в поле52. А в копии рассказ о Михеиче сильнее повлиял на него: дважды приказчик говорит о том, что пропал, что мужик его победил, а потом ложится на постель и стонет. Только после долгих уговоров жены отправляется он к крестьянам в поле.
Образ Михеича несет на себя следы авторской идеализации, в создании его характера заметно сказалась тенденциозность, но она была осознана Толстым. Михеич становится не только источником духовного переворота в приказчике, но и примером внутренней стойкости перед соблазном на грех. Его фигура как выразителя авторской позиции не могла не приобрести черты некоторой условности.
Большое значение для раскрытия основной идеи рассказа имел финал. Начиная с автографа сюжет «Свечки» разрешался гибелью приказчика: упав с лошади на частокол, Михаил Семеныч «пропорол себе брюхо»53 и умер. Во второй рукописи эпизод гибели приказчика остается без изменений, лишь кое-какие подробности автор вводит в описание разбегающегося от приказчика народа. В автографе: «…попрятался от него весь народ»54; в копии: «…попрятались все от него, кто во двор, кто за угол, кто на огороды»55.
На этапе же третьей рукописи (копия А. П. Иванова) в финал вводятся существенные уточнения. Грубо реалистическая манера изображения смерти Михаила Семеныча («пропорол себе брюхо», «нутро все на землю вытекло»56) дополняется новыми деталями, усиливающими эффект неприглядности конца: приказчик «лежит навзничь», «руки раскинул», «глаза остановились», «И кровь лужей стоит — земля не впитала»57. Предыдущие рукописи на этом заканчивались — гибель злодея ставила финальную точку в рассказе («Тут и помер»58). Но в конфликт с Михаилом Семенычем были вовлечены и мужики, о которых ничего до сих пор не было сказано. Толстой вписывает новый эпизод, рассказывающий о том, как мужики нашли погибшего приказчика. Реакция крестьян — испуг и почти бегство (обходят тело «задами») — противопоставлена поведению Михеича, который, чувствуя за собой правду, подходит к телу Михаила Семеныча, закрывает ему глаза и отвозит к барскому дому. Здесь вписывает Толстой и завершающую повествование морально-дидактическую сентенцию:
«И поняли мужики, что не в грехе, а в добре сила божия, великая»59.
Несмотря на прозрачность поучения, заложенного в самом сюжете, автор не передоверяет читателю сделать вывод, а «ясно и лаконично формулирует его» [Николаева: 219].
Интересно, что появляется эта сентенция только в третьей рукописи. Однако нечто вроде прямого поучения автор пытался ввести и на ранних стадиях работы. Так, в первом абзаце автографа после рассуждения о господах, среди которых были такие, что жалели людей, а «были и собаки, не тем будь помя-нуты»60 — следовало продолжение: плохие хозяева «только о своем брюхе помнили и забывали про смертный час и про то, что все люди Богу равны и что во всяком человеке заложена искра Божия»61. Фраза полностью вычеркивается и не заменяется новым вариантом. Думается, автора не удовлетворило место этого предложения в тексте: еще не был изложен сюжет, но уже появился вывод.
И во второй рукописи Толстой вычеркивает две фразы из речи жены приказчика, уговаривающей его отпустить мужиков с поля: «Не губи ты своей души. Не наказал бы тебя Бог за обиды твои»62 (они перешли сюда из автографа). Мысль, выраженная в этих словах, казалось бы, должна была полностью удовлетворить Толстого как автора именно народных рассказов: слова героини дают прямую оценку действиям приказчика и предваряют финал рассказа. По-видимому, Толстого могло смутить два момента: появление важных слов не в сильной позиции текста (начало или конец, кульминация) и, соответственно, возможность невнимательного отношения к ним читателя; выбор второстепенного лица, которому доверены слишком важные мысли. Моральный итог должен был подвести рассказчик, сближающийся с автором, и подвести его после страшной смерти приказчика. В третьей рукописи и появилась финальная нравоучительная фраза, и рассказ завершался не жестокой гибелью героя, а назиданием.
Поучение в рассказе выражается не только с помощью сюжета, системы образов, конфликта. Изначально мораль рассказа была заложена в его названии — «Мне отмщение и Аз воздам». Но в копии с автографа писатель вписывает крупными буквами новое название поверх старого — «Свечка»; а «Мне отмщение и Аз воздам» становится эпиграфом63. Новое название, по сути, тоже дидактично, потому что фиксирует кульминацию в противостоянии Михеича и приказчика — именно чудо со свечкой сломило злой дух Михаила Семеныча, — но скрыто дидактично. Не знакомого с сюжетом читателя название лишь интригует: нравственный смысл образа раскрывается только после знакомства с произведением.
Найденное заглавие вполне удовлетворило писателя, а вот поиски эпиграфа продолжились. В третьей рукописи к прежнему эпиграфу вписывается новый — это довольно значительная по объему вставка на полях, содержащая выписки из «Послания св. апостола Павла к римлянам» (Рим. 12:19) и из Второзакония (Вт. 32, 35 – 36, 39). Толстой приводит две фразы библейского текста, в которых более подробно раскрывался смысл фразы «Мне отмщение и Аз воздам»: нельзя противиться злу злом, наказание должно идти от Бога. В корректуре, набранной с копии А. П. Иванова64 (без авторской правки), слова «Мне отмщение и Аз воздам» отсутствуют, видимо, как содержательно избыточные на фоне приведенных цитат из послания апостола Павла и Второзакония. Но и зафиксированный в корректуре вариант эпиграфа не дошел до завершенного текста. В напечатанном рассказе в качестве эпиграфа взяты слова из Евангелия от Матфея (Мф. 5:38 – 39). Выбор пал именно на этот фрагмент, как можно предположить, потому, что он запечатлел антагонизм двух взглядов на жизнь, конфликт которых и лег в основу сюжета рассказа: борьба злом со злом («око за око и зуб за зуб») и непротивление злу насилием («не противься злому»)65.
С нашей точки зрения, на этом завершилась работа автора над произведением. То, что происходило с текстом дальше, трудно отнести к области творчества. Рассказ, предназначенный для народного издательства «Посредник», был опубликован в нем в 1886 г.66 с подробным заглавием и — новым финалом.
Заглавие «Свечка, или Как добрый мужик пересилил злого приказчика» появилось по просьбе друга и единомышленника Толстого В. Г. Черткова — с целью привести книжки «Посредника» «в самую подходящую форму для лубочных изданий» ( Толстой, Письма ; т. 85: 268). Новое заглавие Толстой сформулировал в письме к Черткову от 15 – 16 октября 1885 г.
Новый же вариант финала был вызван дискуссией, разгоревшейся среди единомышленников писателя. Суть его отражает большое письмо В. Г. Черткова от 7 ноября 1885 г. Признавая сильное впечатление, производимое «Свечкой», указывая на нужность для народного читателя этого рассказа, Чертков пишет о смутившей его концовке, об «ужасной» смерти приказчика «как раз после того, как он сознал торжество добра над злом» ( Толстой, Письма ; т. 85: 277). Корреспондент Толстого ссылается на мнение близких по духу людей: «…все в один голос находят, что рассказ и по форме и по содержанию прекрасен, только вот конец все портит. Лежачего не бьют. Приказчик лежит с той минуты, как признал себя побежденным» ( Толстой, Письма ; т. 85: 277) — и убеждает придумать другой конец.
В ответном письме от 11 ноября 1885 г. Толстой признался, как неприятно ему было «желание переменить» (Толстой, Письма; т. 85: 276), которое так настойчиво выражал Чертков. Но, понимая, что он и другие члены «Посредника» руководствовались добрыми побуждениями, писатель, хотя это далось ему нелегко, пошел на уступку и написал непосредственно в письме новый вариант финала. Согласно ему, Михаил Семеныч затосковал, запил и по приказу барина лишился места приказчика. И постепенно без дела совсем опустился, обовшивел и спился. «От вина и помер», — заканчивает свое повествование Толстой и приписывает в письме фразу: «Так еще возможно» (Толстой, Письма; т. 85: 276)67. Правда, позднее писатель признавался Черткову, что изменение конца «Свечки» было ему неприятно [Гусев: 418].
Поскольку новый финал был инициирован «извне» и являлся уступкой автора редакторам «Посредника», мы считаем его вариантом, родившимся в силу внешних обстоятельств, а не вытекающим закономерно из самого процесса писания, поэтому фиксируем факт его существования, но не включаем в круг наших размышлений.
Анализ рукописного фонда рассказа «Свечка» позволяет реконструировать последовательность авторской работы над сложившимся уже на этапе автографа художественным замыслом. От рукописи к рукописи создается «страшная и в какой-то мере щедринская картина крепостнических нравов» [Чичерин: 115], лишенная условности; выявляется антагонизм жизненных позиций героев (Петр Михеев — Василий Минаев, Петр Михеев — Михаил Семеныч), и при этом обнаруживаются неожиданные сближения между ними (Михаил Семеныч и Василий Минаев); рождается финал, который наглядно реализует мысль эпиграфа, а также соединяет в единой точке повествования всех участников драмы; вводится выдержанная в духе народного миросозерцания нравоучительная сентенция как финальный аккорд рассказа. Поучение смягчает тяжелое впечатление от смерти приказчика, выписанной в духе «физиологического» очерка.
Черновики убедительно свидетельствуют, что и в посткризисный период Толстой, несмотря на усиление в его творчестве моралистически-проповеднического начала, несмотря на тенденцию к художественному «опрощению», был прежде всего писателем. Дидактический пафос рассказа «Свечка» выражается не только в открытой и прямой форме (образ доброго мужика, библейский эпиграф, финальное поучение, религиозная символика), но и поэтическими средствами языка, требующими от читателя эстетической чуткости (художественный образ в заглавии, прием контраста и сближения антагонистов в системе персонажей, использование лейтмотивов).
Список литературы Рассказ Л. Н. Толстого «Свечка»: от замысла к художественному воплощению
- Андреева Е. П. Толстой-художник в последний период деятельности. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1980. 270 с.
- Арденс Н. Н. Творческий путь Л. Н. Толстого. М.: Издательство АН СССР, 1962. 680 с.
- Бабаев Э. Г. Кому нужны черновики? // Бабаев Э. Г. «Высокий мир аудиторий…»: лекции и статьи по истории русской литературы / сост. Е. Э. Бабаева, И. В. Петровицкая; под общ. ред. проф. Т. Ф. Пирожковой. М.: МедиаМир, 2008. С. 354–360.
- Громова-Опульская Л. Д. История текста как путь к истории литературы // Громова-Опульская Л. Д. Избранные труды / отв. ред. М. И. Щербакова. М.: Наука, 2005. С. 451–461.
- Гудзий Н. К. Лев Толстой. Критико-биографический очерк. М.: Худож. лит., 1960. 215 с.
- Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М.: Наука, 1970. 560 с.
- Жданов В. А. От «Анны Карениной» к «Воскресению». [М.]: [Книга], [1967]. 280 с.
- Кущенко З. А. Идейно-художественная роль сказовости в народных рассказах Л. Н. Толстого // Жанр рассказа в русской и советской литературе: [сб. ст.]. Киров: Б. и., 1983. С. 52–59.
- Ломакина С. А. Поэтика поздней прозы Л. Н. Толстого (повести и рассказы 1885–1902 годов): дис. … канд. филол. наук. Елец: Елецкий госуд. ун-т. И. А. Бунина, 2000. 158 с.
- Лученецкая-Бурдина И. Ю. Творчество Л. Н. Толстого в контексте русской культуры последней трети XIX века. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019. 211 с.
- Николаева Е. В. Художественный мир Льва Толстого. 1880–1900-е годы. М.: Флинта, 2000. 272 с.
- Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого / сост. В. А. Жданов, Э. Е. Зайденшнур, Е. С. Серебровская; общ. ред. В. А. Жданова. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 634 с
- Срезневский В. И. «Свечка». История писания и печатания // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1937. Т. 25. Произведения 1880-х годов. С. 710–712.
- Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. М.: Советский писатель, 1965. 508 с.
- Чичерин А. В. Стиль народных рассказов Толстого // Яснополянский сборник 1980. Статьи. Материалы. Публикации. Тула: Приокское книжное издательство, 1981. С. 105–117.