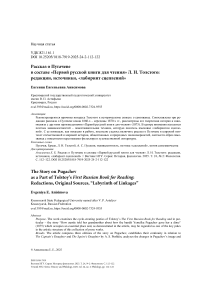Рассказ о Пугачеве в составе «Первой русской книги для чтения» Л.Н. Толстого: редакции, источники, «Лабиринт Сцеплений»
Автор: Анисимова Е.Е.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Реконструируются причины интереса Толстого к историческому сюжету о самозванце. Сопоставлены три редакции рассказа о Пугачеве конца 1860-х - середины 1870-х гг., рассмотрены его творческая история и взаимосвязи с другими произведениями «Первой русской книги для чтения» (1875). В центре внимания находится поэтика эквивалентностей - повествовательная техника, которую писатель именовал «лабиринтом сцеплений». С ее помощью, как показано в работе, писателю удалось включить рассказ о Пугачеве в широкий контекст отечественной и мировой истории, общественных и природных закономерностей, соотнести образ самозванца с известными персонажами фольклора и художественной литературы.
Пугачев, ермак, л.н. толстой, а.с. пушкин, эквивалентность, поэтика «сцеплений», мотив самозванчества
Короткий адрес: https://sciup.org/147247940
IDR: 147247940 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-2-112-122
Текст научной статьи Рассказ о Пугачеве в составе «Первой русской книги для чтения» Л.Н. Толстого: редакции, источники, «Лабиринт Сцеплений»
,
,
Личность Емельяна Пугачева заинтересовала Л. Н. Толстого в период его работы над «Войной и миром» (1863–1869). Упоминания о предводителе крестьянской войны 1773–1775 гг. звучат в эпилоге, а также в черновиках писателя: «Если власть есть перенесенная на правителя совокупность воль, то Пугачев есть ли представитель воль масс? Если не есть, то почему Наполеон I есть представитель?» (здесь и далее курсив наш. – Е. А. ) (т. 12, с. 308) 1; «Рассуждать о том, хорошо или дурно сделал Наполеон , не дав гвардию, всё равно, что рассуждать о том, хорошо или дурно сделал Пугачев , напиваясь пьян в Оренбурге» (т. 14, с. 202).
Как можно видеть в приведенных фрагментах, а также в последующих высказываниях Толстого о самозванце, имена Пугачева и Наполеона практически всегда стоят рядом: «Когда свергнут был Людовик XVI-тый и во власть вступил Робеспьер и потом Наполеон , кто властвовал? Более добрые или более злые? <…> И когда царем был Петр III или когда его убили и царицей стала в одной части России Екатерина, а в другой – Пугачев . Кто тогда был злой, а кто добрый?»; «Нет тех ужасающих преступлений, которые не совершили бы люди, составляющие часть правительства, и войска по воле того, кто случайно (Буланже, Пугачев , Наполеон ) может стать во главе их»; «Ведь организация эта будет действовать всё так же, в чьих бы руках она ни находилась: нынче власть эта, положим, в руках сносного правителя, но завтра ее может захватить Бирон, Елизавета, Екатерина, Пугачев , Наполеон первый , третий» («Царство Божие внутри нас») (т. 28, с. 190, 247). Секретарь Толстого В. А. Лебрен в своих мемуарах пересказал один из разговоров писателя с сыновьями: в этой беседе французский император и русский самозванец не просто соседствуют, но оказываются в одном ряду с эпидемиями и природными катаклизмами: «Каждое поколение имело свои крупные бедствия. У наших дедов это был Наполеон , прежде Пугачев или холера , наводнение , землетрясение ... У каждого поколения свое испытание, которое надо нести» (т. 55, с. 550).
По наблюдению А. В. Гулина, фигуры Пугачева и Наполеона современниками Толстого воспринимались как воплощения единого «духовн<ого> принцип<а>, жизненн<ой> мо-дел<и>, провозгласивш<ей> самозванство, собственную волю грешного человека главными и определяющими силами бытия. <…> В этом смысле, – замечает исследователь, – Наполеоновская империя как венец революционного самовластья представлялась глубоко родственной царским притязаниям безграмотного донского казака» [Гулин, 2020, с. 170]. Пугачев, упомянутый в «Войне и мире», представал русской аналогией Наполеона, не являясь при этом самостоятельным персонажем книги. Как показали исследователи, «тень пугачевщины» и аллюзии на пушкинскую «Капитанскую дочку» присутствуют в сюжете имплицитно – на- пример, в сценах вспыхнувшего было богучаровского бунта [Гулин, 2020, с. 164–176] и расправы над Верещагиным [Юхнова, 2016, с. 152–157].
Однако, несмотря на регулярность упоминаний Пугачева и нередкие сравнения его с Наполеоном, единственным оконченным произведением Толстого, посвященным восстанию яицких казаков, стал рассказ «Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник». Сочинение было помещено в «Первую русскую книгу для чтения», увидевшую свет вместе с остальными частями в 1875 г. «Азбука» и прилагавшиеся к ней четыре книги с рассказами были предназначены, по словам автора, для обучения «всех детей от царских до мужицких». «Первые впечатления поэтические получат из нее, – поясняет Толстой, – и… написав эту “Азбуку”, мне можно будет спокойно умереть» (т. 61, с. 269). В каждую из книг писатель включил сюжеты об исторических событиях и деятелях, особенно выделив фигуры Емельяна Пугачева, Ермака и Петра I. Если в «Войне и мире» была воплощена историософская программа автора, то исторические рассказы из русских книг для чтения представляли собой историю для народа в лицах – со своими образцами (Ермак) и их антиподами (Пугачев). Настоящая статья посвящена исследованию творческой истории рассказа Толстого «Как тетушка рассказывала бабушке…», который мы намерены рассмотреть в многообразии его связей с другими произведениями «Первой русской книги для чтения» и историческими рассказами тетралогии.
Замысел рассказа о Пугачеве возник у Толстого в конце 1860-х гг., в период завершения «Войны и мира», когда он приступил к составлению «Азбуки» и «Русских книг для чтения» (т. 48, с. XVII). В набросках тем статей и рассказов для будущих изданий писатель последовательно помещает имя Емельяна Пугачева в перечни исторических деятелей, о которых планирует написать: «32. Самозванец. 33. Ермак. 34. Пугачев . 35. Суворов. 36. Меньшиков <…> 80. Пугачев разорил помещиков. Девочку одели в сарафан . <…> 2) Суворов. Ермак. 3) Меншиков. Пугачев – история девочки »; «5. Пугачев, девочка . 6. Суворов. 7. Меншиков» (т. 21, с. 428–430, 502). Можно заметить, что в первый список запланированных для дальнейшей разработки сюжетов Пугачев включен дважды. Вероятно, в первом случае автор собирался написать собственно исторический рассказ – подобный будущему «Ермаку». Во втором случае имелась в виду вымышленная история о встрече девочки с Пугачевым. В следующих по порядку планах писателя, как мы видим, эта вымышленная история потеснила историко-биографическую.
Обращает на себя внимание и то, что в набросках Толстого повторяются одни и те же имена исторических деятелей, которые затем группируются в пары. Романист, с одной стороны, объединяет фигуры незаурядных военных лидеров Суворова и Ермака, с другой – отличившихся чрезвычайной социальной мобильностью Меншикова и Пугачева. Александр Меншиков стал персонажем неоконченного романа Л. Н. Толстого об эпохе Петра I. В характеристике сподвижника императора писатель выделил его двойственный статус и необыкновенный карьерный взлет от продавца пирогов до государственного деятеля (т. 17, с. 409). Впоследствии опыт преподавания в Яснополянской школе привел Толстого к мысли о нецелесообразности полного курса истории для детей (т. 8, с. 109) и, как следствие, к существенному сокращению исторических экскурсов в его книгах для чтения. Так, из перечисленных выше исторических сюжетов писатель реализовал только два замысла, остановив свой выбор на народных героях – Ермаке и Пугачеве.
Впервые о рассказе «Как тетушка рассказывала бабушке…» Толстой упоминает в письме Н. Н. Страхову от 6–7 августа 1872 г., где обещает прислать критику «заброшенную было историческую статейку» о Пугачеве в ответ на его интерес к Ермаку (т. 21, с. 571, 631). Спустя три года сочинение о самозванце было опубликовано в составе «Первой русской книги для чтения» (1875). Творческая история толстовского рассказа о Пугачеве свидетельствует о том, что первоначальный замысел писателя и тип повествования претерпели значительные изменения. Всего было создано три редакции рассказа, причем фабула в самом общем виде сохранилась без изменений. В дворянское имение неожиданно приезжает Емельян Пугачев.
Чтобы спасти барскую дочь, няня переодевает ее в крестьянский сарафан и выдает за свою внучку. Пугачев дарит девочке гривенник и уезжает.
Мотив переодевания в рассказе о Пугачеве восходит к пушкинской традиции – роману «Капитанская дочка» и повести «Барышня-крестьянка», в которой смена одежды связана не с историческим противостоянием, а с «войной» двух соседей-помещиков. Когда Пугачев осадил Белогорскую крепость, родители Марьи Ивановны переодевают ее в крестьянское платье: «Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан » [Пушкин, 1978, с. 306–307], в простой одежде застают ее в плену у Швабрина Гринев и Пугачев: «На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна» [Там же, с. 340]. Мотив переодевания зафиксирован в записях Толстого еще на этапе планирования рассказа: «Пугачев разорил помещиков. Девочку одели в сарафан ». За переодеванием следует смена социальной роли. Пребывающую в горячке дочь капитана Миронова попадья выдает за свою племянницу, а толстовская няня оказавшегося в смертельной опасности барского ребенка – за свою внучку:
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина
Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха ?» Я вору в пояс: « Племянница моя , государь; захворала , лежит, вот уж другая неделя». <…> «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». – У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. – «Изволь государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». – «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! – и ничего… бог вынес! [Пушкин, 1978, с. 311].
«Пугачев» Л. Н. Толстого (первая редакция)
И разболелся у барыни сынок. Кричит целый день и ночь и ничего не ест. <…> – Здорово, старуха . Сказывай, где господа, а то запорю. Няня говорит: Нету, родимый, уехали все в Казань. Одни мы, слуги, остались. – А девчонка чья? – Моя , родимый, внучка с деревни пришла погостить без господ. Стал человек оглядывать горницу (т. 21, с. 514).
Сюжет нападения Пугачева на Белогорскую крепость Толстой внедряет в дающуюся мельком историю соседей главных героев: «к соседям нашим за 40 верст Пугачев приходил и… барина на воротах повесил , а детей всех перебил . <…> Погостили они у нас так 2 дня, все поели, попили, поломали, но ничего не сожгли и уехали» (т. 21, с. 125–126). В первой редакции рассказа сходство с «Капитанской дочкой» просматривается более явно – на уровне лексики и деталей предметно-вещного мира: «Всё было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны ; посуда перебита; всё растаскано » [Пушкин, 1978, с. 310] – «Погостили день, переломали все сундуки, всё хорошее увезли , уехали» (т. 21, с. 516).
Толстой адаптирует сюжет пушкинской «Капитанской дочки» для юного читателя, поместив на место девушки на выданье девочку-ребенка. Аналогичный ход наблюдаем в другом известном произведении, вошедшем в состав русских книг для чтения, – «Кавказском пленнике», в котором был переосмыслен сюжет одноименной пушкинской поэмы, а на месте «черкешенки младой» оказалась Дина, «девочка… лет тринадцати» (т. 21, с. 309). Переодетые Маша Миронова, Лиза Муромская и девочка из рассказа о Пугачеве «собираются» замуж. Пушкинские героини в действительности находят себе супругов, а героиня Толстого – образно, получая прозвище «Пугачева невеста».
Монета в сюжете рассказа о Пугачеве представляет собой свернутый пушкинский сюжет милости со стороны самозваного государя и государыни. Правило атамана «Казнить так казнить, жаловать так жаловать», реализованное в цепи происшествий с героями романа и их поступков, а также обещание Екатерины II «устроить состояние» дочери капитана Миронова сжимаются в детском произведении до одной сцены получения памятного подарка. Обратимся к трансформации первоначального замысла Толстого в разных редакциях произведения.
Первая редакция, сохранившаяся в черновиках писателя, получила название «Пугачев» и была написана от третьего лица. Тем самым создавалась иллюзия действительно произо- шедшей некогда истории. Первоначальная ситуация мирной жизни и некоторые повествовательные детали в этой версии произведения были аналогичны зачину другого исторического рассказа – «Ермак». При этом на месте татар, от которых исходила угроза для мирного населения, в данном случае оказывался Пугачев:
«Ермак»
При царе Иване Васильевиче Грозном были богатые купцы Строгоновы, и жили они в Перми, на реке Каме . Прослышали они, что по реке Каме на 140 верст в кругу есть хороша земля: пашня не пахана от века, леса черные от века не рублены . В лесах зверя много, а по реке озера рыбные, и никто на той земле не живет, только захаживают татары (т. 21, с. 190).
«Пугачев» (первая редакция)
Было это дело 100 лет тому назад. Царицей была Екатерина Алексеевна. <…> Жил тогда барин Ивлев за 80 верст от города Казани, на реке Мёше . Было у него большое имение, сто дворов крестьян, большие леса, земли пахотной много <…>. Когда прослышал Ивлев про названного царя, что зашел он в Казанскую губернию, и жжет господские дома, и вешает господ, он и говорит жене: Слухи есть, что за Камой рекой стоит этот царь. От нас 150 верст . Как бы к нам не зашел (т. 21, с. 514).
Для двух историй о казачьих атаманах автор избрал отчетливо различающиеся повествовательные стратегии, что следует уже из наименований произведений: с одной стороны, лаконичное «Ермак», с другой – распространенное, в литературной манере XVIII – начала XIX в. «Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник». «Ермак», написанный раньше, но помещенный во «Вторую русскую книгу для чтения», был сделан как достоверное повествование об исторической личности и ее главном деянии – завоевании Сибири. С учетом тесных взаимосвязей Ермака с представителями разных сословий, героического финала и образно-мотивных перекличек внутри книги произведение тяготело к эпике. Рассказ о Пугачеве, напротив, уводил на второй план связанное с самозванцем историческое событие и фокусировался на частном случае – встрече ряженого в царя казака и переодетой в крестьянское платье девочки-дворянки, т. е. типичной анекдотической ситуации. Таким образом, в центре внимания оказывалось не столько событие, сколько сама ситуация рассказывания, подчеркиваемая автором в нескольких вариантах названия: «дедушкина мать рассказывала …», «тетушка рассказывала бабушке…». «Самозван-ческая» переодетость героев словно программировала характерный образ рассказчика. Автор прятался за маской повествователя, который, с одной стороны, ограничен в понимании исторических событий, с другой – был их очевидцем и участником. В «Ермаке», напротив, видим типичного для прозы Толстого аукториального повествователя, сообщающего рассказанной истории статус объективного факта, а ее герою – реноме образцового исторического деятеля. В этом отношении весьма характерен приведенный Н. Я. Эйдельманом пример о правке пушкинской рукописи о самозванце Николаем I. Император предложил заменить первоначальное название «История Пугачева» на «Историю Пугачевского бунта», так как Пугачев «не имел истории» [Эйдельман, 1984, с. 145]. Повествовательный акцент Толстого делает Пугачевский бунт эксцессом, случаем в истории России, а случай, как правило, передается в форме анекдота.
Во второй черновой редакции произведения под названием «Что мне дедушкина мать рассказывала про Пугачева» Толстой изменил первоначальное «объективное» повествование на рассказ от первого лица. Если сравнить состав «Азбуки» (1871–1872) и «Первой русской книги для чтения» (1875), то можно увидеть, что рассказ о самозванце был добавлен в более позднее издание в числе других произведений, написанных от первого лица. События в нем освещаются уже не в «объективном» ключе, а будучи пропущенными сквозь сознание ребенка. Предводитель крестьянского бунта здесь превращается в « Пуг ача», которым взрослые « пуг ают» девочку: «Вот погоди, Пугач придет, перестанешь блажить» (т. 21, с. 515).
Наконец, в окончательной редакции рассказ получил название «Как тетушка рассказывала бабушке о том, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник» и был опубликован в «Первой русской книге для чтения». Вариативность названия одного произведения в разных редакциях свидетельствует о смене акцентов. Во-первых, внимание смещается с фигуры предводителя восстания на героиню-рассказчицу. Во-вторых, в последнем варианте названия зафиксирована случайностная картина мира, присущая нарративной стратегии анекдота: мятежник дарит ребенку монету. В-третьих, в заглавии опубликованного рассказа Пугачев получает оценочную характеристику, становясь «Емелькой» и «разбойником».
Изменения коснулись и имени главной героини. В первой редакции девочка была названа Настей, во второй – Анночкой, в третьей – Катюшкой. Имя Анна из второй версии рассказа в последнем варианте произведения было передано другой героине – няне Анне Трофимовне. Это же имя, как мы помним, носит и главная героиня романа «Анна Каренина», над которым Толстой работал одновременно с русскими книгами для чтения. Имя Катя, на котором в итоге остановился Толстой, упоминалось в первой – «исторической» – версии рассказа и впоследствии было исключено из текста. Оно принадлежало действующей императрице Екатерине Алексеевне, упоминанием о которой открывалось повествование. В этом смысле неслучайным представляются фокусировка на подаренном гривеннике и включение прозвища героини «Пугачева невеста» в последнюю редакцию рассказа. Казак не просто дарит девочке гривенник, но и говорит о ней, отмечая ее белизну и красоту:
– Иди, Катюшка , не бойся. – Я подошла.
Он взял меня за щеку и говорит:
– Вишь, белолицая какая, красавица будет. – Вынул из кармана горсть серебра, выбрал гривенник и дал мне.
– На тебе, помни государя, – и ушел.
<…> А меня шутя звали с тех пор: Пугачева невеста (т. 21, с. 126).
Как видно из приведенного фрагмента, герой не просто дарит монету, но и выбирает ее из нескольких, знает имя девочки – тёзки императрицы. Сравним с аналогичным эпизодом в черновике, где не упоминаются ни имя ребенка, ни поиск нужной монеты: «– Поди, девочка , не бось. Полез в карман, достал гривенник , дал» (т. 21, с. 515). В период царствования Екатерины Великой на гривеннике, десятикопеечной монете, помещался портрет императрицы. В этом смысле прозвище «Пугачева невеста» ассоциативно соотносится не только с новой обладательницей подарка, но и с изображенной на нем царицей, так как Пугачев, объявивший себя Петром III, тем самым оказывался законным супругом Екатерины Алексеевны 2.
Следующий важный мотив, объединяющий всех главных героев рассказа, – мотив переодевания. Пугачев наряжается государем, претендуя на недоступный ему по рождению статус. Няня переодевает в крестьянский наряд барскую дочку, стремясь, напротив, замаскировать ее «барство» и тем самым спасти жизнь. Как отмечает Б. А. Успенский, самозванчество на Руси расценивается как переодевание, «игра в царя»: «Переодевание в царское платье предстает в этом контексте как типичный случай анти-поведения, которому в содержательном плане соответствует кощунственное стремление через внешнее подобие обрести сакральные свойства» [Успенский, 1996, с. 159].
Исследуемый мотив развивается от первой редакции рассказа к первопубликации. Сначала повествователь изображает героя нейтрально, как некого человека в собольей шубе, т. е. потенциального царя. В опубликованной версии та же сцена показана уже глазами ребенка. Подобно персонажу известной сказки Г. Х. Андерсена «Новое платье короля», объявившему, что «король голый», девочка Катя видит вещи в присущей поэтике Толстого остраненной перспективе, т. е. такими, «какие они есть», и потому сразу понимает, что человек в горнице – не государь: «К утру я заснула, и когда проснулась, то увидала, что у нас в горнице казак в зеленой бархатной шубе , и Анна Трофимовна ему низко кланяется» (т. 21, с. 125).
Подготовка книг для чтения велась Толстым параллельно с работой над романом об эпохе Петра I, оставшимся неоконченным, и «Анной Карениной». В связи с последним автор изложил свои мысли о поэтике «лабиринта сцеплений» в знаменитом письме H. H. Страхову от 23 апреля 1876 г. В современной нарратологии описанный Толстым прием получил на- именование эквивалентности [Шмид, 2008, с. 229]. Она подразумевает сложное соотношение элементов, связь которых обеспечена не причинностью, логикой и целенаправленностью сюжетного развития самого нарратива, а «основывается на совпадении этих элементов на более общем понятийном уровне, поскольку оппозиции… нейтрализуются относительно более абстрактного, более глубокого родового признака» [Там же, с. 230–231]. Эквивалентность является слагаемым общей тенденции – литературной циклизации, отмечавшейся исследователями творчества Толстого на материале его ранних произведений и романа «Анна Каренина» [Бочаров, 1978, с. 9; Одиноков, 1978, с. 9–10; Лебедев, 1988, с. 130; Browning, 2010].
По наблюдению В. Г. Одинокова, даже несобранные в циклы ранние произведения Толстого образуют «художественные ансамбли». Исследователь приводит важное замечание автора «Войны и мира» о повторяемости народного идеала в разных поэтических формах: «каждый народ употребляет различные приемы для выражения в искусстве общего идеала и… благодаря именно этому мы испытываем особое наслаждение, вновь находя наш идеал выраженным новым и неожиданным образом» [Одиноков, 1978, с. 9]. В поэтике самого Толстого отражение народного идеала предполагает не только отмеченную писателем повторяемость, но и последовательное противопоставление различным примерам его нарушения. Так, в повести «Казаки» отдаленность дворянина Оленина от гармоничного идеала естественного человека вскрыта «на тонких сопоставлениях… действий, мыслей, поступков» его и казака Лукашки [Там же, с. 30]. Эти приемы повторяемости и противопоставления были положены в основу поэтики рассматриваемых детских книг Толстого.
Система образов построена в каждой из частей по принципу эквивалентности: сюжетам об исторических событиях, социальных и семейных перипетиях соответствуют аналогичные сюжеты о животных, насекомых, растениях, водоемах и т. д. По Толстому, история, общество и природа развиваются по одним законам, и ассоциативные «сцепления» между рассказами закрепляют представление о мире как едином целом. Первыми в книгах, как правило, следуют связанные общими темами и мотивами рассказы о животных и природных явлениях, затем добавляются соответствующие им произведения о людях, их внутрисемейном и социальном взаимодействии, наконец, в заключительную часть сборника помещаются характерные исторические примеры и народный эпос. На уровне макроцикла из четырех книг исторические примеры образуют системные пары, включающие одновременно и общие основания, и принципиальные различия. Так, два казачьих атамана Пугачев и Ермак в ситуации противостояния с властью ведут себя по-разному: первый объявляет себя царем и поднимает бунт, второй – уходит и покоряет Сибирь.
В составе «Первой русской книги для чтения» рассказ о Пугачеве находится в центре небольшого микроцикла о героях-«бунтовщиках». История о Емельяне Ивановиче предваряется басней «Мужик и лошадь» о строптивом животном. Хозяин отправляется в город за овсом для своей лошади, которая, не понимая цели поездки, всю дорогу не слушается его. В финале она ест купленный в городе овес и размышляет следующим образом: «Лучше бы с самого начала оставаться нам с ним дома; он бы сидел на печи, а я бы ела овес» (т. 21, с. 124). Следующим после истории о Пугачеве Толстой поместил рассказ «Визирь Абдул». Сказка изначально имела другое заглавие – «Министр Моле» и, вероятно, представляла собой исторический анекдот об авантюристе, возвысившемся при Наполеоне I до министра юстиции. Однако в ходе работы над рассказом Толстой предпочел скрыть аллюзии на современный историко-политический контекст, ориентализировав сказку и заменив в тексте французского министра Моле на визиря Абдула при персидском царе (т. 21, с. 631). В произведении один из бунтовщиков дергает визиря за бороду, но когда обстоятельства меняются в пользу придворного, важный сановник неожиданно прощает своего обидчика.
Как можно видеть, в представленном микроцикле поэтика «сцеплений» сочетается у Толстого с приемом остранения [Шкловский, 1929, с. 13–14]. Выдающий себя за царя донской казак и дергающий за бороду визиря участник народного бунта подобны глупой и самонаде- янной лошади, которая не понимает мотивов своего хозяина и потому нарушает естественный порядок вещей. Такой подход писатель использует и в других книгах для чтения, а также в более поздней повести «Холстомер» (1886), где рабочая лошадь олицетворяет собой простой народ. Например, в рассказе «Ермак» трудный выбор казачьей дружины перед решающей битвой иллюстрируется атаманом именно притчей о лошади, которой нужно везти в гору тяжелый груз. Но если Ермак «со товарищи» согласен нести свою нелегкую ношу, то самозванец отказывается это делать.
Поэтика эквивалентностей в «Первой русской книге для чтения» не ограничивается тематической группой произведений о народном бунте. Рассказ о Емельяне Пугачеве увязан с другими текстами сборника цепью постепенно развивающихся образов и мотивов. К числу ключевых мотивно-образных «сцеплений», значимых для исследуемого сюжета, отнесем, прежде всего, самозванчество и этически противоположное ему, но конструктивно сходное самоотречение , как правило, связанные с сюжетами переодевания, подмены, образами одежды / шитья / ниток и т. п. Самоотречение или, как говорит сам Толстой, «самоотвержение» – одно из ключевых понятий в поэтике предшествующих произведений писателя – «Казаков» и «Войны и мира». Именно этим качеством писатель характеризует Кутузова, противопоставляя его Наполеону: «Кутузов же тот человек, который от начала до конца своей деятельности в 1812 году… являет необычайный в истории пример самоотвержения » (т. 12, с. 183). В другом фрагменте романа-эпопеи, посвященном княжне Марье, Толстой демонстрирует разницу между гордыней и самоотвержением, указывая на глубоко христианскую природу последнего: «Княжна никогда не думала об этом гордом слове: “справедливость”. Все сложные законы человечества сосредоточивались для нее в одном простом и ясном законе – в законе любви и самоотвержения , преподанном нам Тем, Который с любовью страдал за человечество, когда сам Он – Бог» (т. 10, с. 231–232). В «Русских книгах для чтения» мысль Толстого развивается аналогичным образом – путем сложного комбинирования соответствий – сходств и противопоставлений.
Ключевой для истории о Пугачеве мотив самозванчества предваряется целой серией произведений о животных и людях, стремящихся занять не свое место. В басне «Черепаха и орел» героиня просит орла научить ее летать, не внимая его словам о том, что черепахе подниматься в небо не пристало. В итоге самонадеянная черепаха, стремящаяся, что показательно, вверх, падает и разбивается о камни. В другой басне «Голова и хвост змеи» хвост решает ходить впереди, несмотря на предупреждение головы о том, что для этого ему недостает глаз и ушей. В результате он передвигается вслепую и проваливается в трещину. В рассказе «Галка и голуби» черная от природы птица «выбелилась» (т. е., перенося ситуацию на мир людей, – переоделась ), чтобы питаться в голубятне, где «хорошо кормят». Забывшись, она закричала «по-галчьи» и была изгнана сначала голубями, а затем и не признавшими ее галками. Наконец, обезьяна из одноименного рассказа решила занять место человека и в его отсутствие села на распиленное им дерево. Не понимая технологии работы, она вытащила клин, прищемила себе хвост и была «прибита» вернувшимся работником.
Схожим образом в различных обстоятельствах ведут себя и люди. Персонажи «Первой русской книги для чтения» стремятся, не прилагая больших усилий, повысить свой социальный статус, разбогатеть, оказаться на несвойственном себе более привлекательном месте, однако, как Наполеон и Пугачев, всегда терпят поражение. Герой басни «Мужик и огурцы» хотел украсть огурцы, чтобы разбогатеть и самому нанять охрану, однако забывается и попадается караульщикам. В были «Как вор сам себя выдал» преступник, желающий завладеть имуществом купца, обнаруживает себя чиханием от табака, в котором прячется от хозяина и его работника. В рассказе «Два купца» один из персонажей позарился на чужое добро, обманув владельца железа и сказав, что металл съели мыши. В итоге ему пришлось вернуть товар и заплатить за него вдвое больше. Общая закономерность, демонстрируемая Толстым на разных примерах, наиболее четко иллюстрируется притчей «Ноша». Два человека несут свою ношу, но быстрее приходит тот, кто шел, не снимая тяжелого груза (ср. с притчей Ер- мака о лошади и тяжелом возе). Социально-политический масштаб эта тема получает в рассказе «Как мальчик рассказывал о том, как он дедушке нашел пчелиных маток». В нем дедушка объясняет внуку природу государственного устройства на примере пчелиного улья: «Я спросил у дедушки, какие такие бывают матки? Он сказал:– “А матка все равно, что царь в народе; без нее нельзя быть пчелам”» (т. 21, с. 115).
Как было отмечено выше, наряду с установлением эквивалентности по принципу сходства в книге устанавливаются образно-мотивные и смысловые связи и по принципу противопоставления. Героям-самозванцам в структуре сборника противостоят персонажи, готовые к самоотречению. В «Пожарных собаках» и «Сан-готардской собаке» мысль Толстого раскрывается на примерах из мира зверей. Служебные собаки рискуют собственной жизнью, отправляясь в огонь и метель, т. е. тоже некоторым образом выходят за пределы своего исходного социального амплуа – но ради спасения оказавшихся в беде людей. Развитие сюжета самоотвержения происходит уже в рассказах, персонажами которых становятся дети. Так, в «Котенке» и «Пожаре» (в последнем случае характерна идентичность ситуаций, в которых приходится действовать животным и человеку) мальчики подвергаются смертельной опасности, спасая других – слабых и беззащитных. Маленький Вася закрывает собой котенка от своры несущихся к нему собак, восьмилетний Ваня – возвращается в горящий дом и спасает малолетних брата и сестру. Аналогично, как мы помним, поступает няня в рассказе о Пугачеве, с риском для жизни выдавая барских детей за своих внучек. Герои, защищающие терпящих бедствие, сами оказываются в добровольно избранном положении потенциальной жертвы, однако, в отличие от персонажей-самозванцев, которые также занимают чужое место, их поступки продиктованы любовью и готовностью к самоотречению. Те же мотивы движут и взрослыми героями, готовыми пожертвовать собой ради ближнего.
В «Рассказе мужика о том, за что он старшего брата любит» герой вызвался пойти в солдаты за младшего брата. Пугачев становится самозванцем ради обретения более высокого статуса, а занявший место брата мужик – «самозванцем наоборот», утрачивая имеющееся у него безопасное положение, а вместе с ним, по всей вероятности, и жизнь. Дальнейшее развитие этого сюжета можно увидеть в позднейшей повести Толстого «Хаджи-Мурат», где за старшего брата в солдаты пошел младший – Петр Авдеев, получивший затем смертельное ранение. Младший брат в рассказе для детей, от лица которого ведется повествование, тоже носит имя Петр. В первоначальной редакции произведения персонажи были названы именами действительных яснополянских крестьян – Василий и Игнат, однако затем Толстой дал героям другие имена – Николай и Петр (т. 21, с. 632), сделав их одновременно тёзками двух русских императоров и главных героев «Войны и мира» – Николая Ростова и Пьера Безухова. Поступок старшего брата находит отклик в душе младшего и рождает в нем готовность к ответной жертве: «…как пораздумал, что за меня брат идет, стало мне тошно. Я и говорю: “Не ходи, Николай, мой черед, я и пойду”. <…> А теперь как вспомню про брата, кажется бы жизнь за него отдал» (т. 21, с. 632).
Наконец, завершается «Первая русская книга для чтения» адаптированной былиной «Святогор-богатырь», в которой представлены два типа героя – гордец Святогор и «мужик» Ми-кула Селянинович. Для первого характерны наполеоновские амбиции, для другого – знакомая по притче «Ноша» готовность, не сетуя, нести свое бремя. Таким образом, в финале цикла сложная система соответствий и противопоставлений обретает эпическое звучание.
Итак, смысло- и структурообразующей основой «Первой русской книги для чтения» становится сравнение двух жизненных позиций и соответствующих им фольклорных и литературных сюжетов и мотивов – самозванчества и самоотречения . Внутри сборника мысль писателя развивается с помощью повторов и со- / противопоставлений, демонстрирующих единство природных, социальных и исторических законов. В рамках всего макроцикла из четырех книг писатель формирует системную пару Ермак – Пугачев, которые представляют собой наиболее яркие примеры народного исторического идеала и его нарушения.