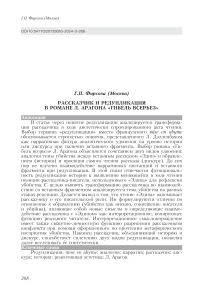Рассказчик и редупликация в романе Л. Арагона "Гибель всерьез"
Автор: Фирсова Г.П.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье через понятие редупликации анализируется трансформация рассказчика в ходе диегетически спроецированного акта чтения. Выбор термина «редупликация» вместо французского mise en abyme обосновывается строгостью понятия, представленного Л. Дэлленбахом как нарративная фигура аналогического удвоения на уровне истории или дискурса при наличии вставного фрагмента. Выбор романа «Гибель всерьез» Л. Арагона объясняется сочетанием двух видов удвоения: аналогия темы убийства между вставным рассказом «Эдип» и обрамлением (история) и проекция самого чтения рассказа (дискурс). До сих пор не изучено взаимодействие нарративных инстанций и вставного фрагмента при редупликации. В этой связи отмечается функциональность редупликации истории к выявлению меняющейся в ходе чтения позиции рассказчика-писателя, использующего «Эдипа» для рефлексии убийства. С целью выявить трансформацию рассказчика во взаимодействии со вставным фрагментом анализируется тема убийства на разных этапах рецепции. Делается вывод о том, что чтение «Эдипа» напоминает рассказчику о его писательской роли. Им формулируются отличия по отношению к обрамлению (убийство как письмо, совмещение писателя и убийцы), являющие собой новые смыслы и определяющие взаимодействие рассказчика с «Эдипом» как интерпретационное, копирующее функцию реального читателя. Интерпретационное смыслопорождение имеет также сюжетно-личностную функцию разрешения рассказчиком конфликта при помощи оформленного по прочтении метафорического восприятия убийства. Наконец рассказчик, объединяющий историю и дискурс, способствует сплетению двух видов редупликации, позволяя далее исследовать ее синтетически.
Редупликация, аналогия, нарратив, рассказчик, дискурс, история, рецептивная эстетика, л. арагон
Короткий адрес: https://sciup.org/149146476
IDR: 149146476
Текст научной статьи Рассказчик и редупликация в романе Л. Арагона "Гибель всерьез"
Понятие mise en abyme , зародившееся во французской критике, в отечественном литературоведение только начинает осмысляться теоретически благодаря работам Л.Е. Муравьевой. Недостаточная освещенность в русской научной традиции заставляет предварять любой анализ текста определением mise en abyme . Для Л. Дэлленбах в его хрестоматийной работе она представляется как «всякое внутреннее зеркало, отражающее повествование в его целостности» [ Dallenbach 1977, 52].
Метафора зеркала здесь используется для обозначения удвоения. При этом метафоричность делает понятие неточным, скрещивая его с другим — зеркальностью. В дневнике А. Жида [Gide 1996, 170—171], поспособствовавшего, чтобы mise en abyme стал объектом литературоведческих исследований, помимо метафоры зеркала появляется еще и геральдическая. Она основана на этимологии термина: так обозначалось изображение уменьшенных копий герба в нем самом.
Понятие редупликация, введенное Л.Е. Муравьевой как синонимичный французскому mise en abyme, напротив, не связано c метафорическими значениями, что делает его, в научном смысле, более строгим, именно поэтому далее мы будем использовать его при анализе. При этом невозможно не обращаться к mise en abyme из-за внушительной западной традиции употребления, которая за ним закрепилась.
Предпосылка к разделению этих терминов заложена также в работе Дэлленбаха. Он использует редупликацию для пояснения функционирования mise en abyme , но, в отличие от последнего, не определяет ее специально. Исследователь обозначает ее как нарративную фигуру удвоения, действующую по принципу аналогии [Genette 1972, 242] между вставным фрагментом и произведением: «простая редупликация (фрагмент соотносится с включающим его произведением по принципу подобия [аналогии])» [ Dallenbach 1977, 51].
В нарративе, по мысли Дэлленбаха, развитой Л.Е. Муравьевой, такие аналогии могут проявляться на уровне истории или дискурса. В первом случае редупликация создает «транспонирование мотива, события или нарративного уровня» [Муравьева 2017, 76], а во втором ему «подвергаются элементы дискурса: событие рассказывания (акт нарра-ции) и событие чтения (акт рецепции)» [Муравьева 2017, 76]. Транспонирование (перенос) в данном случае также содержит идею удвоения, поскольку оно происходит по отношению к определенному референту (дискурсу или истории), его воспроизводя.-
Роман Луи Арагона «Гибель всерьез» интересен наличием в нем двух видов редупликации. Так, на уровне истории аналогия проявляется повторением темы убийства во вставном рассказе «Эдип» и обрамлении. Редупликация дискурса, строящаяся и за счет удвоения события рассказывания, и чтения [Муравьева 2017, 96], представлена одной повествующей инстанцией (рассказчиком), одновременно являющимся создателем гиподиегетического уровня (вставного рассказа) и его воспринимающим субъектом.
Здесь проекция письма в нарратив сменяется проекцией чтения. Изначально рассказчик предстает как писатель: «я пишу книгу о романе» [Арагон 1998, 144]. Однако в конце романа тема убийства мотивирует его переход в статус читателя собственного рассказа: «Итак, “Эдип”. Я перечитаю “Эдипа” и найду причину для смертоубийства» [Арагон 1998, 330]. Потенциальной жертвой в данном случае является вымышленный персонаж рассказчика — Антоан. Чтение при этом выступает как медиум рефлексии рассказчика об убийстве, а также себе самом и своей связи с персонажем, и должно сыграть в его моральном конфликте разрешающую роль.
Значимая роль чтения в авторефлексии убийцы отражена и на уровне содержания вставного рассказа:
Не просто было найти себя в газетах, то есть найти своего покойника. Наконец Эдип — для удобства мы будем называть нашего героя Эдипом, хотя он не спал со своей матерью и не убивал своего отца <...> — вроде бы признал одну жертву своей и два или даже три дня жадно прочитывал всю прессу. [Арагон 1998, 335—336].
Рассказчик как бы исправляется, говоря о том, как сложно «найти» не себя, а «своего покойника». Тем не менее, повторение местоимения свой говорят о важности именно «я» повествующего субъекта как центра этого поиска.
Авторефлексивность и поиск себя определяют функцию самой редупликации ( mise en abyme ). Отмечая разницу между понятиями текст-в-тексте и mise en abyme , Муравьева говорит следующее о функциональной стороне последней: «это поиск Себя в письме через настойчивое воспроизведение образов, событий и мотивов» [Муравьева 2016, 50]. В случае романа в центре такого настойчивого повторения — убийство, что определяет важность этой темы для идентичности рассказчика и поиска себя в прочитанном.
Использование чтения вставного фрагмента для авторефлексии — пример того, как дискурсивная редупликация (и редупликация события чтения как ее подвид) затрагивает нарративные инстанции производства и рецепции текста [Муравьева 2017, 107]. Вместе с этим, характер их взаимодействия с гиподиегетическим уровнем еще представляет интерес для исследований в рамках возможных функций редупликации в отношении субъекта наррации. В романе Арагона позиция такого субъекта — рассказчика — и особенности его читательского взаимодействия со вставным фрагментом интересны еще и тем, что обнаруживаются при сочетании редупликации дискурса и истории.
В частности, аналогия, построенная на теме убийства, позволяет выявить меняющуюся под действием чтения позицию рассказчика, который переосмысляет отношение к убийству и выражает его по прочтении. В этой связи важным становится выявление трансформации рассказчика при сочетании редупликации истории и дискурса, а также то, как он при этом взаимодействует со вставным фрагментом.
Для этого нужно проанализировать отличия, возникающие на основе аналогий темы убийства. Ведь ключевым для трансформации рассказчика становится не столько подобие между вставным фрагментом и обрамлением, сколько их отличие друг от друга, позволяющее выявить произошедшее в рассказчике изменение. В некоторых франкоязычных исследованиях [Escobar 2002; Labeille 2011] отличие выходит на первый план: например, Эскобар отмечает, что при всем подобии отличие составляет смысл существования mise en abyme [Escobar 2002, 387]. Семантически сама аналогия включает в себя отличительный аспект, поскольку сходство предполагает определенное различие.
Выявление таких отличий возможно при обращении к принципу фрактальности (разрыванию), проявляющемся в том, что вставной рассказ, транспонируя тему убийства на уровне истории, отделяет решение о чтении от последующей рефлексии субъекта. С помощью данного свойства наррации необходимо соотнести воспроизводимые рассказчиком аспекты убийства, возникающие до перехода к чтению, во вставном рассказе и наконец по завершении рецепции, с целью осмысления специфики его отношения со вставным фрагментом и влияния последнего на него самого._
Так, переходу ко вставному рассказу предшествует мотивировка рассказчика, состоящая в поиске оправдания убийства:
...мной овладевает мысль: в следующем произведении Анто-ана найду я оправдание моего поступка, он перестанет быть бра- тоубийством, я окончательно удостоверюсь, что Антоан — совсем не я, что он другой [Арагон 1998, 329] [здесь и далее выделение принадлежит автору статьи, если не указано иное — Г.Ф.].
Тема убийства возникает здесь как результат подвижной идентичности рассказчика, который не может отделить себя от своего персонажа, Антоана. Убийство должно стать, по мнению рассказчика, средством разграничения двух субъектов.
«Эдип» выступает здесь как произведение Антоана, однако по прочтении рассказчик вновь присваивает себе авторство, а также саму идею убийства: «...и я понял: за Антоаном уже стоял я, я, подбирающийся к своей идее, обыгрывающий ее пока на юмористический лад, словно можно шутить с убийством» [Арагон 1998, 372]. Это свидетельствует о значимости чтения для рассказчика как внутреннем событии, поскольку, закончив чтение, он обозначает свое отделение от персонажа повторением местоимения первого лица, что маркирует достижение одной из целей — Антоан становится «другим».
Отметим при этом, что рассказ не формулирует напрямую оправдание убийству, то есть не отвечает изначальной мотивировке, подтолкнувшей к чтению. Однако данный мотив редуплицируется на содержательном уровне «Эдипа»:
Абсурдность провозглашена злодеем, который очень хочет ею оправдать свои преступления . Это Макбету, дабы одержать победу хотя бы в плане умозрения, необходимо, чтобы было так, как будто «жизнь. это повесть, которую пересказал дурак; в ней много слов и страсти, нет лишь смысла». [Арагон 1998, 353].
Как и в случае персонажа-Эдипа, Макбет выступает как двойник рассказчика. Цитата из Шекспира используется для дублирования поиска оправдания, отсылающего к ситуации рассказчика. При этом поиск оправдания в метафорическом соотношении жизни и фикционального — повести — обличается как злодейство, а рассказчик-писатель, при аналогии с Макбетом, как убийца.
Метафора жизни как фикционального преломляется особым образом при сопоставлении характеристики убийства во вставном рассказе и в последующей рефлексии рассказчика о прочитанном. Рассказчик по прочтении придает произведению новые смыслы, которые только угадываются в «Эдипе».
Например, в последнем убийство характеризуется нерациональностью:
Все произошло так внезапно, действия были настолько машинальны , что убийца почувствовал себя убийцей не перед жертвой, а вдалеке от нее, убежав, запутав следы, и теперь никакими силами не мог восстановить обстоятельств: обстановки, точного места, где произошло убийство [Арагон 1998, 335].
При наличие общей темы убийства рассказчик ее варьирует, переходя от чтения вставного фрагмента к его осмыслению. В оригинале, вместо эпи- тета машинальный, используется автоматический («les gestes automatiques») [Aragon 2012, 313], что позволяет легче проследить аналогию. Так, по прочтении рассказчик упоминает данный эпитет уже для характеристики письма:
А если заговорить при этом и о скорости мысли, которая в свое время так заботила сюрреалистов, желавших научиться реализовывать поэтический гений (а преступление, как и гений, тоже своего рода точка наивысшего напряжения), то тогда и преступление становится автоматическим письмом , посягательством на естественный ход вещей действием, сродни словесному творчеству... [Арагон 1998, 373-374].
То есть, в результате чтения рассказчик формулирует метафорическую связь между преступлением и созданием произведения. Отличие вставного рассказа и обрамления (машинальность убийства в первом и автоматизм письма во втором) позволяет говорить о позиции рассказчика как интерпретирующего субъекта.
Именно в метафоре убийства как письма, а также фикциональности своей жертвы, рассказчик находит оправдание. Изначально в «Эдипе» он употребляет следующее сравнение для жизни после убийства: «И жизнь убийцы переменилась, все в ней приобрело другой смысл, возникло иное будущее, как будто текст переписали заново » [Арагон 1998, 331]. Рассказчик превращает это сравнение в метафору, осуществляя интерпретацию прочитанного:
Я не могу быть убийцей, потому что Антоана не существует. И никогда не существовало. Теперь выражаюсь ясно? Он реален только на словах. Слышите? Я говорю: «убить его» , но это значит уничтожить слова, стереть написанное , исправить текст , и ничего больше [Арагон 1998, 379-380].
Переносный характер убийства здесь графически передается кавычками, отделяя действительность, создаваемую словом, от той, в которой существует рассказчик. Следовательно, при такой интерпретации рассказчик оправдывает желание «убить» тем, что отменяет буквальный смысл этого действия, переводя его в область креативной работы над текстом, и одновременно дает метафикциональный комментарий всего произведения.
В фикциональной природе состоит, по мнению рассказчика, его отличие от персонажа. Это позволяет ему реактуализировать в нарративе свой статус писателя. Более того, он обогащает его новым смыслом, совмещая фигуры писателя и убийцы в одной и обуславливая это фикциональностью совершаемых творцом преступлений: «Писатель беспрепятственнее других наслаждается человекоубийством. Чего ему, собственно, опасаться?» [Арагон 1998, 379].
Чтение оборачивается, таким образом, утверждением себя не в статусе воспринимающего, а в статусе создающего субъекта. Это позволяет уточнить утверждение самого Арагона, согласно которому он прочитал, а не написал свои произведения: «Поймите правильно, это не фигура речи, не метафора или сравнение, я не написал свои романы, я их прочел» [Aragon 1981, 43]. В «Гибели всерьез» эта установка осмысляется практически-художественно: на примере рассказчика показано, что рецепция и письмо — взаимодополняющие и сменяющие друг друга творческие процессы.
Итак, рассказчик в редупликации становится субъектом смыслопо-рождения по отношению ко вставному фрагменту. Источник новых смыслов (фикционализация убийства, совмещение фигур писателя и убийцы) — отличия в аналогии между вставным рассказом и обрамлением; они актуализированы в речи рассказчика при переходе между этими двумя нарративными уровнями, сменяющими друг друга согласно принципу фракталь-ности.
Новые смыслы позволяют говорить о воздействии чтения на рассказчика, а также взаимодействии последнего со вставным фрагментом в рецептивном акте. Оно состоит в интерпретации прочитанного, что воспроизводит функцию реального читателя, который в ходе рецепции также формулирует смыслы и коммуникативно завершает ее.
Наконец смыслопорождение имеет сюжетно-личностное значение для рассказчика. Подходя к чтению с личной мотивировкой (поиск оправдания убийства), относящейся к сюжету романа, он находит его в метафорической интерпретации преступления как творческого акта. Посредством такой метафоры рассказчик разрешает внутренний конфликт, что является результатом авторефлексии, оформленной нарративной фигурой редупликации.
В общетеоретическом ключе подчинение истории и дискурса одной инстанции (рассказчику) способствует тому, что редупликация истории в романе, по сути, позволяет выявить редупликацию события чтения. Ведь изменение у рассказчика представления о сущности убийства и роли писателя в нем выявляется благодаря отличиям между вставным фрагментом и обрамлением на уровне истории, но воспринимается при этом как результат чтения. Варьированное повторение темы убийства на уровне истории способствует восприятию рецептивного акта внутри диегезиса как завершенного.
Такое сосуществование удвоений истории и дискурса ставит в общем под сомнение необходимость их жесткого типологического разделения, открывая перспективу для дальнейших исследований, направленных на более синтетическое представление о редупликации.
Список литературы Рассказчик и редупликация в романе Л. Арагона "Гибель всерьез"
- Арагон Л. Гибель всерьез /пер. с фр. М. Кожевникова, Н. Мавлевич. М.: Вагриус, 1998. 398 с.
- Муравьева Л.Е. Редупликация (mise en abyme) и текст-в-тексте // Новый филологический вестник. 2016. № 2. С. 42-51. EDN: WCPWXF
- Муравьева Л.Е. Нарративная редупликация как фигура авторефлексии литературного дискурса: дис. к. филол. н.: 10.02.19. М., 2017. 233 c. EDN: ZQHPHT
- Aragon L. Je n'ai jamais appris а fcrire ou les Incipit. Paris: Flammarion (Champs), 1981. 152 p.
- Aragon L. La Mise а mort // Aragon L. Oeuvres romanesques competes /sous la dir. de D. Bougnoux. Vol. V. Paris: Gallimard, 2012. P. 313-350.
- Dдllenbach L. Le rncit spfculaire: Essai sur la mise en abyme. Paris: Seuil, 1977. 247 p.
- Escobar M. L'abyme diffmencrn: vers une nouvelle approche de la mise en abyme gidienne // Gide et la tentation de la modernitfc actes du colloque international de Mulhouse, 25-27 octobre 2001 /organisй par le Centre de recherche sur l'Europe littmaire; munis par Robert Kopp et Peter Schnyder. Paris: Gallimard, 2002. P. 383-390.
- Genette G. Figures III. Paris: Seuil, 1972. 242 p.
- Gide A. Journal 1887-1925 /sous la dir. de И. Marty. Vol. I. Paris: Gallimard, 1996. P. 170-171.
- Labeille V. Manipulation de figure. Le miroir de la mise en abyme // Figures et discours critique /sous la dir. de D. Sylvain, M. Vadean. Vol. 27. Montrnal: Figura; Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire. 2011. P. 89-105.