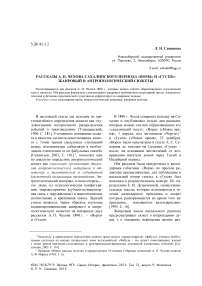Рассказы А. П. Чехова сахалинского периода "Воры" и "Гусев": жанровый и антропологический сюжеты
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются два рассказа А. П. Чехова 1890 г., которые можно считать обрамляющими «сахалинский текст» писателя. Оба рассказа формально удовлетворяют жанровым требованиям календарной прозы. Антропологическая субстанция произведений существенно корректирует их жанровое задание.
Календарная проза, антропологическая динамика, жанровая система
Короткий адрес: https://sciup.org/147218955
IDR: 147218955 | УДК: 82-3.2
Текст научной статьи Рассказы А. П. Чехова сахалинского периода "Воры" и "Гусев": жанровый и антропологический сюжеты
В настоящей статье мы исходим из хрестоматийного определения сюжета как «художественно построенного распределения событий в произведении» [Томашевский, 1996. С. 181]. Уточненное понимание сюжета в качестве «аспекта повествования, взятого с точки зрения смысловых отношений между изложенными событиями в необходимом отвлечении от их фабульных связей» [Силантьев, 2003, С. 161] 1, позволяет нам по аналогии определить антропологический сюжет как смысловую организацию движения антропологического материала в отношении к тематической и событийной ( сюжетной ) организации произведения. Антропологический материал, в свою очередь, – это люди, их психологическая конфигурация, мировосприятие (субъектно-акцепторная связь с окружающим) и мироотношение (когнитивная и креативная связь). Задачей статьи является, таким образом, изучение взаимопроникновения жанрового и антропологического сюжетов на материале двух рассказов А. П. Чехова 1890 г. – «Воры» и «Гусев».
В 1890 г. Чехов совершил поездку на Сахалин и опубликовал только два рассказа, которые можно считать обрамляющими его «сахалинский текст»: «Воры» («Новое время», 1 апреля, под заголовком «Черти») 2 и «Гусев» («Новое время», 25 декабря). «Воры» были напечатаны в газете А. С. Суворина до поездки на Сахалин, «Гусев» – после, на основании впечатлений от возвращения писателя домой через Тихий и Индийский океаны.
Оба рассказа были приурочены к календарным событиям: «Воры» по просьбе редактора предназначались для публикации в пасхальный номер газеты, а «Гусев» был помещен в рождественском номере. По определению Е. В. Душечкиной, «повествовательные тексты, которые исполняются в течение календарного праздника и сюжет которых разворачивается во время того же праздника… называются календарными» [1995. С. 10].
Жанровый канон пасхального рассказа предусматривает сюжет о возрождении души, т. е. покаянии, переоценке жизни; раз- мышления о жизни и смерти и религиозноэтическую оценку. Рождественский рассказ подразумевает возможность чуда как награды за добродетель; мгновенное преображение зла в добро (см.: [Душечкина, 1995; Ка-пинос и др., 2006]).
Чеховские рассказы нарушают как сюжетную заданность календарных текстов, так и их антропологическую архитектонику. «Воры», приуроченные к пасхальному номеру «Нового времени», сюжетно выстроены как святочный рассказ. Основной сюжет святочного рассказа – об испытании судьбы. Сюжетообразующий мотив встречи с нечистой силой подчеркнут в заглавии первой публикации («Черти»). Этот мотив преобразуется в не менее традиционный для святочных текстов мотив встречи с разбойниками, которые здесь не страшны, а жизнелюбивы. Наконец, изменения в судьбе главного персонажа мотивированы его добровольным, а не провиденциальным выбором.
Время действия в рассказе «Гусев» вовсе не определено, и отсылка к рождественскому сюжету осуществляется только в сновидениях персонажа. Кроме того, образы-аффекты из бреда и сна Гусева воссоздают образ-переживание зимних занятий в деревне, не приуроченных к Рождеству как таковому.
Жанровый состав чеховских календарных рассказов изменяется в результате изменений структуры и места человека в фиктивной реальности. Поэтому для того, чтобы установить, в какую сторону изменялся жанр, нужно посмотреть, как в чеховском календарном рассказе изменялся человек.
Сюжет рассказа «Воры» поначалу выглядит вполне традиционно для святочного рассказа. Фельдшер Ергунов, возвращавшийся с покупками для больницы в «один из святых вечеров», заблудился в метель и прибился к пользовавшемуся дурной славой постоялому двору некоего Чирикова. Собственно, Чириков был не так давно убит ямщиками, а двор перешел к его «старухе» и дочери Любке. На дворе фельдшер застает гостей-конокрадов Калашникова и Мерика. Мерик угоняет его (вернее, больничную) лошадь, а Любка крадет узел с покупками и деньги. После этого приключения фельдшер спился, был выгнан со службы и, главное, понял, что жизнь обыкновенного человека скучна и неправильна.
В сюжетной схеме рассказа начало (метель, страшный постоялый двор, логово разбойников) канонично для святочного жанра. Нагнетается чувство страха – и у персонажа, и у читателя: описываются ночное время, виднеющееся сквозь «снеговую мглу» «красное, мутное пятно», которое становится красным окном; забор с торчащими остриями вверх гвоздями; приземистый домик, воющий пес… Затем все словно теряет святочный колорит, эмоциональную напряженность ожидания небывалых событий (чертовщины). Рассказ меняет жанровую установку повествования о «страшном» и трансформируется в «случай на дороге», путевое приключение. Даже мотив «чертей» (разговор о том, «есть на этом свете черти или нет?») оказывается ложным: фельдшер уличен во лжи, а в избе находится «черт», с которым лекарь якобы встретился однажды. Он оказался цыганом-конокрадом по прозвищу Мерик.
«Отъявленный мошенник и конокрад» Калашников разглядывает книжку с картинками, видит там правящего лошадьми пророка Илию и хвалит картинку. Сюжетным сигналом разрушения святочной жанровой фактуры становится «восприятие» фельдшера, осознавшего, что «стало скучно» [Чехов, 1985. Т. 7. С. 313] 3. Повествование о необычном становится повествованием о привычном. Однако пляска Любки и Мери-ка, когда «вместо Любки мелькало только красное облако… а у Мерика того и гляди сейчас оторвутся руки и ноги» (С. 320), – провоцирует Ергунова к обесцениванию его социального статуса и дальнейшему бытийному потрясению: «И он жалел: зачем он фельдшер, а не простой мужик?» (С. 318). И Мерик с его призывом «гулять желаю!», и Любка, которая не ценит жизнь: «Я знаю, ты разыщешь у мамки деньги, загубишь и ее, и меня… но Бог с тобой» (С. 321), – и солидный Калашников воплощают совсем иные ценности «вольной жизни», нежели те, что исповедовал до того момента фельдшер. Требуемое жанром «чудо» касается смены жизненных установок и, в конце концов, имеет отношение к мотиву выбора судьбы, хотя теперь это прерогатива персонажа, а не сверхъестественных сил.
Неоромантические персонажи - Любка, Мерик и Калашников - и их коннотации: дикая воля, «гульба», сильные страсти -представляют в традиционной жанровой структуре компонент «нечистой силы», а постоялый двор - разбойничье логово. Но это простые смертные, хоть и воры (разбойники). Чехов объяснял в письме к Суворину от 1 апреля 1890 г., в день публикации рассказа: «Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно известно. <...> мое дело показать только, какие они есть. Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так знайте же, что это не нищие, а сытые люди, что это люди культа и что конокрадство есть не просто кража, а страсть» [Чехов, 1976. С. 54]. Сильные люди наделены разрушительной, но насыщенной «чувством жизни» витальной энергией в отличие от обывательского противоестественного существования. Обобранный и с гудящей от тумаков Любки головой Ер-гунов покидает постоялый двор в раздумье: «У него путалось в голове, и он думал: к чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же ведь вольные птицы, вольные звери, вольный Мерик, и никого они не боятся, и никто им не нужен! И кто это выдумал, кто сказал, что вставать нужно утром, обедать в полдень, ложиться вечером, что доктор старше фельдшера, что надо жить в комнате и любить только жену свою? <...> Ах, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чёртом вперегонку (написание авторское. - Л. С. ) с ветром, по полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться бы над всеми людьми...» (С. 325). Греховная «гульба» стоящих вне закона конокрадов и тусклая, но «безгрешная» жизнь социализированных обывателей представляют собой альтернативные варианты экзистенционального воплощения человека: «Кто говорит, что гулять грех? <...> А вот которые говорят это, те никогда не жили на воле, как Мерик и Калашников <^> они всю свою жизнь побирались, жили без всякого удовольствия и любили только своих жен, похожих на лягушек» (С. 325).
В начале рассказа Ергунов - «человек пустой, известный в уезде за большого хвастуна и пьяницу» (С. 311). В конце это «вольный человек», хоть и тоже вор. Опустившийся и изгнанный со службы фельдшер восхищается весенним небом, которое он раньше, в своей «порядочной» жизни, даже не замечал: «Боже, как глубоко небо и как неизмеримо широко раскинулось оно над миром! Хорошо создан мир, только зачем, с какой стати... люди делят друг друга на трезвых и пьяных, служащих и уволенных и пр.? <...> Почему же птицы и лесные звери не служат и не получают жалованья, а живут в свое удовольствие?» (С. 325).
Ергунов становится таким же «разбойником», как и те лихие люди, которых он встретил в прошлом году в один из святочных вечеров. Автор рассказа, заметив, что с тех пор «прошло года полтора», восстанавливает календарный цикл в сюжете рассказа: «Как-то весною, после Святой, фельдшер <...> побрел по улице без всякой цели» (С. 325). Чехов оканчивает рассказ точкой зрения своего персонажа: «И когда шел опять в трактир, то, глядя на дома богатых кабатчиков, прасолов и кузнецов, соображал: забраться бы ночью к кому побогаче!» (С. 326). Так концепт «воля» становится ведущим в антропологическом сюжете рассказа, в немалой степени «поправляя» его жанровый сюжет.
В основу рассказа «Гусев» легли воспоминания Чехова о похоронах в океане. В образе солдата Гусева и беспокойного интеллигента Павла Иваныча преломились черты людей, с которыми писатель познакомился на Сахалине, - каторжника Егора и доктора Перлина. «Гусев» даже сюжетно не похож на рождественский рассказ. Мотив смерти не отягчен мотивом вины; Гусев погружен в состояние тоски, но оно вызвано не столько оторванностью от семьи (Гусев вспоминает лишь семью брата, сам же не имеет семьи), сколько оторванностью от родины (во сне и бреду умирающий герой видит родную деревню и поля). Нет указаний на время действия, зато указание на место - корабль в океане - суггестивно подразумевает тему непрочности и зыбкости существования человека.
Лежащий в корабельном лазарете чахоточный бессрочноотпускной Гусев возвращается с Дальнего Востока домой. Во сне он видит зимнюю деревню: «Рисуется ему громадный пруд, занесенный снегом <...> Из двора, пятого с краю, едет в санях брат Алексей; позади него сидят сынишка Ванька, в больших валенках, и девчонка Акуль-ка, тоже в валенках. Алексей выпивши,
Ванька смеется, а Акулькина лица не видать – закуталась» (С. 328). Но вскоре болезненный сон увлекает Гусева в лиминаль-ное пространство между жизнью и смертью: «…вместо пруда вдруг ни к селу ни к городу показывается большая бычья голова без глаз, а лошадь и сани уж не едут, а кружатся в черном дыму. Но он все-таки рад, что повидал родных» (С. 328).
На следующий день Гусев снова видит пруд, деревню, сани с братом и племянниками; видит односельчан, но все кончается снова бычьей головой без глаз и черным дымом… Неожиданно умирает игравший в карты солдатик. Интеллигент Павел Иваныч пытается заглушить страх смерти и беспрестанно обличает общественный порядок. Автор иронизирует над «протестантом», воспроизводя неуместный в палате для обреченных больных негодующий тон его речей: «Я воплощенный протест. Вижу произвол – протестую, вижу ханжу и лицемера – протестую, вижу торжествующую свинью – протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать» (С. 333). Гусеву не интересен протест – ни исходящий от его соседа по лазарету, ни сам по себе, как способ социального поведения. Павел Иваныч ненавидит людей за их униженность, но вообще-то – просто ненавидит, потому что озлоблен на быстротечность своей «протестантской» жизни: «Парии вы, жалкие люди… Я же другое дело. Я живу сознательно, я всё вижу <…> и всё понимаю» (С. 333). Знакомому литератору мизантроп внушал, чтобы тот «оставил на время свои гнусные сюжеты насчет бабьих амуров и красот природы» и «обличал» «двуногую мразь» (С. 332). Он пытается убедить себя в том, что обладает неиссякаемым запасом жизненных сил, путая ненависть с полнотой существования: «Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью» (С. 333). Павел Иваныч умирает первый, и Гусев решает, что он попадет в царство небесное: «…мучился долго. И то взять, из духовного звания, а у попов родни много. Замолят» (С. 335).
Гусев понимает, что в ненависти жизни нет. Он использует последние часы жизни на то, чтобы мысленно возвратиться в родные края. Страдалец в третий раз замечтался о морозе – физически стремясь спрятаться от невыносимой духоты и зноя: «Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге и холоде! Едешь на санях; вдруг лошади испугались чего-то и понесли <…> Но зачем держать (коней. – Л. С.)! Пусть резкий, холодный ветер бьет в лицо и кусает руки, пусть комья снега… падают на шапку, за воротник, на шею, на грудь, пусть визжат полозья и обрываются постромки <…> А какое наслаждение, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху в сугроб…» (C. 334–335). Умирающий, слабый Гусев – и мчащийся на санях, ощущающий стремительный бег коней, – два образа человека: настоящего и должного.
Накануне смерти Гусев при помощи больного солдатика выбирается из душного лазарета наружу: «Наверху глубокое небо, ясные звезды, покой и тишина – точь-в-точь как дома в деревне, внизу же – темнота и беспорядок» (С. 337). Затем обзор расширяется – океан наблюдает автор, а не тихий, смиренный денщик. Высказывание автора о жестокости природы – водной стихии и отчужденного от людей парохода, казалось бы, утверждает мироустройство, которое зиждется на том, что сильные всегда «давят» слабых: «У моря нет ни смысла, ни жалости. Будь пароход поменьше и сделан не из толстого железа, волны разбили бы его без всякого сожаления и сожрали бы всех людей, не разбирая святых и грешных. У парохода тоже бессмысленное и жестокое выражение. Это носатое чудовище прет вперед и режет на своем пути миллионы волн <…> и если бы у океана были свои люди, то оно, чудовище, давило бы их, не разбирая тоже святых и грешных» (С. 337).
Мотив радости, удали – катания на санях – гасится мотивом страха и беззащитности окруженного стихией человека и сводится к мотиву одиночества, покинутости, не чуждого рождественскому рассказу. Видимо, поэтому Гусев, из последних сил цепляясь за жизнь, хочет бросить вызов враждебной водной стихии и говорит: «А ничего нету страшного. <…> Только жутко, словно в темном лесу сидишь, а ежели б, положим, спустили сейчас на воду шлюпку и офицер приказал ехать за сто верст в море рыбу ловить – поехал бы. Или, скажем, крещеный упал бы сейчас в воду – упал бы и я за ним»; но тут же на вопрос солдата признается, что «помирать страшно» (С. 337).
Зашитого в парусину Гусева спускают на воду, и все с «восторгом» наблюдают, как к нему лениво приближается акула, поддевает тело, разрывает парусину.
Кончается рассказ описанием «великолепного, очаровательного» неба и океана таких «ласковых, радостных, страстных» цветов, «какие на человечьем языке и назвать трудно» (С. 339). Океан не враждебен человеку; примирение состоялось – в таком финале узнаваемо проявился вариант каноничного для рождественского рассказа мотива покоя. Рассказ «Гусев» приурочен к Рождеству, и в нем «мерцают» тематические мотивы семьи, одиночества, несостоявшего-ся чуда.
Однако главным в обоих календарных рассказах Чехова становится сюжет не о празднике, а о человеческой неприкаянности. Человек оказывается важнее «сюжета»; индивидуализация сюжетных мотивов (общее становится персональным и исключительным опытом) и исследование иррациональной конституции человека выводят чеховский рассказ за пределы жанра – свидетельствуя о его заметной, коренной модификации в литературе «конца века».
TWO CHEKHOV’S SHORT STORIES OF THE SAKHALIN PERIOD THE GENRE AND ANTHROPOLOGIC ASPECTS («THE THIEVES» AND «GUSEV»)
Список литературы Рассказы А. П. Чехова сахалинского периода "Воры" и "Гусев": жанровый и антропологический сюжеты
- Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: становление жанра. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. 258 с.
- Ромодановская Е. К. Предисловие//Капинос Е. В., Проскурина Е. Н. Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Экспериментальное издание. Новосибирск, 2006. Вып. 2. С. 3-17.
- Силантьев И. В. О некоторых теоретических основаниях словарной работы в сфере сюжетов и мотивов//Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Экспериментальное издание. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. Вып. 1. С. 160-169.
- Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1996. 334 с.