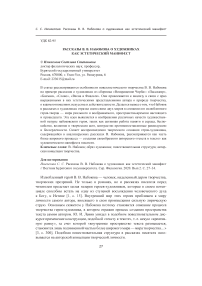Рассказы В. В. Набокова о художниках как эстетический манифест
Автор: Имихелова С. С.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности новеллистического творчества В. В. Набокова на примере рассказов о художниках из сборника «Возвращение Чорба»: «Пассажир», «Бахман», «Слово», «Весна в Фиальте». Они привлекаются к анализу в связи с ярко выраженными в них эстетическими представлениями автора о природе творчества, о взаимоотношениях искусства и действительности. Делается вывод о том, что Набоков в рассказах о художниках отразил идею связи двух миров в сознании его излюбленного героя-творца - мира реального и воображаемого, пространства-времени настоящего и прошедшего. Эта идея выявляется в изображении различных качеств художественной натуры набоковского героя, таких как активная работа памяти и сердца, беспокойство, волнение в творческом акте, контрастно противопоставленные равнодушию и бессердечности. Сюжет воспроизведения творческого сознания героя-художника, содержащийся в анализируемых рассказах В. Набокова, рассматривается как часть более широкого процесса - создания своеобразного авторского «текста в тексте» как художнического манифеста писателя.
В. набоков, образ художника, повествовательная структура, авторская концепция творчества
Короткий адрес: https://sciup.org/148316612
IDR: 148316612 | УДК: 82-95
Текст научной статьи Рассказы В. В. Набокова о художниках как эстетический манифест
Имехелова С. С. Рассказы В. В. Набокова о художниках как эстетический манифест // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 2. С. 27–34.
Излюбленный герой В. В. Набокова — человек, наделенный даром творчества, творческих прозрений. Не только в романах, но и рассказах писателя перед читателем предстает целая галерея героев-художников, которые в своем потенциале способны встать на одну из ступеней восхождения человеческого духа к Богу, к Истине [1, с. 15]. Внутренний мир этих героев приближен к миру личности самого автора, вносящего в свои произведения сильную лирическую струю. Основным сюжетом у Набокова поэтому становится описание процесса творчества героя-художника, в котором отражен процесс создания пространства текста самим автором. Ю. И. Левин увидел в подобном повествовательном дискурсе применение конструкции, подобной «тексту в тексте», т. е. некую «креативную рамку», за счет которой «внутреннее пространство текста размыкается, становится лишь подчиненной частью более широкого мира — мира творчества…» [3, c. 300]. Подобная повествовательная структура в рассказах писателя основывается на авторской концепции творческой личности.
Непосредственное выражение этой концепции можно обнаружить в рассказе «Пассажир» (1927). В его центре — беседа, диалог двух героев, писателя и критика, кстати, безымянных, о соотношении жизни и искусства. Отсутствие имен позволяет прийти к обобщению того вечного спора, который выражен в сожалении героя-писателя о том, что «мы», художники, писатели, занимаемся тем, что «пресный плагиат жизни... приправляем собственными выдумками», не доверяя «гению» жизни, и что не можем обыграть жизнь и достичь абсолютной правды жизни: «…темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии» [4, c. 231], Тогда как герой-критик высказывает противоположное мнение, считая правду искусства выше правды жизни: «Я заступаюсь за слово, — мягко сказал критик» [4, c. 236]. То есть спор идет о том, чему отдать первенство — жизни или искусству, о том, вторично ли искусство по сравнению с жизнью.
Доказательством этой мысли героя-писателя служит его рассказ о случае, приключившемся с ним в железнодорожной поездке. В самом начале его рассказа, когда он уснул «под легкостью узкого казенного одеяла», следует фраза: «И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он, — этот старый, хорошо вам известный прием. “Среди ночи я внезапно проснулся”» [4, с. 232]. Этот своеобразный «текст в тексте» применен в связи с аргументацией героя при отстаивании своей позиции в беседе с критиком. Весь его «рассказ в рассказе» сквозит иронией по отношению к «выдумкам» расхожей, массовой литературы, которая бы свела произошедший с ним жизненный случай к привычным штампам.
Случай свел его с соседом-пассажиром, лица которого он так не разглядел, как не разгадал загадку, почему устроившийся над ним на верхней койке пассажир вел себя совершенно неожиданно — он не спал и издавал звуки, которые бодрствовавшему герою стали яснее, когда он прислушался: «Человек на верхней койке рыдал». Когда же утром поезд будет остановлен и сыщики будут искать преступника — убийцу своей жены и ее любовника (прием насквозь мелодраматический) и проверять документы, герой-рассказчик ожидает, что именно этот рыдающий пассажир окажется тем, кого ищут. Но человек, полный секретов для писателя, способный стать героем будущего произведения, не оправдает ожидания писателя-рассказчика и окажется не тем, кого ищут. Тем не менее это дает ему возможность сделать вывод: «А ведь казалось, как вышло бы великолепно, — с точки зрения писателя, конечно, — если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей... как великолепно все бы это уложилось в рамки моего ночного путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как и всегда, стократ великолепнее» [4, с. 235]. Героя-писателя здесь задевает и огорчает, что он так и не увидел облика того, с кем провел ночь в вагоне поезда, что его волновал такой пустяк, как нога мужчины в шерстяном носке, сквозь дырку которого «торчал перед глазами крупный ноготь».
Интересным в диалоге писателя и критика видится речевая фигура повествователя, который мог бы «вмешаться» в спор критика и писателя — она оказалась практически ненужной Набокову. На первый план выходит прямая речь героев, тогда как слово повествователя напоминает ремарку в пьесе, включающую в себя оценку речи персонажа, описание его поведения, окружающей обстановки, но не участвующую в решении спора героев. Рассказ и начинается со слов двух собеседников. «Да, жизнь талантливее нас, — вздохнул писатель, постукивая картонным концом папиросы о крышку портсигара. — Иногда она придумывает такие темы… Куда нам до нее! Ее произведения непереводимы, непередаваемы». В ответ слушатель-критик «подсказал»: «Все права закреплены за автором» [4, c. 231]. То есть критик не высказывает откровенного несогласия словам писателя, но не соглашается с ним. Функция ремарки в речи повествователя в рассказе (а он вполне драматургичен) заключается в непроясненности, двусмысленности авторского отношения к позиции одного или другого собеседника, потому что возникает вопрос, что же проявилось в «ремарке» «мягко сказал», «подсказал»: скромность критика или, наоборот, превосходство критика над писателем. Здесь активизируется реакция читателя, ощущающего тождественность позиции героя-писателя и автора.
На первый поверхностный взгляд, в беседе двух людей — писателя и критика нет несогласия, недаром критик, «скромный», «с тонкими подвижными пальцами», «глядит добрыми глазами», и писатель в чем-то соглашается с ним. Оба обсуждают случай, который мог бы стать предметом «вполне завершенного рассказа», если бы пассажир оказался убийцей. Именно так считает критик, по мнению которого многое случайное и, наоборот, необычайное в жизни под пером писателя становится более значительным. Он отдает приоритет не жизни, а искусству слова и не замечает, насколько сказанное им звучит бессмысленно — как общее место: «Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным» [4, с. 236].
Но более глубокий смысл открывается в том, что оба собеседника говорят об одном и том же, но говорят на разных языках. Если критик выскажет совершенно случайное предположение: «Ваш герой, может статься, плакал потому, что потерял бумажник на вокзале…» и останется равнодушным в своем однозначном и узколобом отношении к услышанному, то герой-писатель никак не успокаивается: ему горько, что жизнь «имела в виду нечто совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое». И во второй раз употребляя слово «горе», говорит: «Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю...» [4, с. 236].
Таким образом, в рассказе «Пассажир» Набоков сталкивает случай из жизни и вымысел художника, размышляя о возможности искусства слова сравниться с «гением жизни». И речь идет не о соперничестве писателя с самой жизнью, а о его способности увлекаться ею, восхищаться, горько удивляться, волноваться. Рассказ можно назвать художническим манифестом автора, потому что диалог писателя и критика на самом деле оказывается не спором двух героев — субъектов высказываний, а внутренним диалогом его автора о цели творчества, назначении художника, о том, в чем заключаются его сила и талант. Сомнения героя-писателя, мучающая его мысль о превосходстве жизни над «выдумкой», более всего близка автору. Тогда как безапелляционная уверенность героя-критика в превосходстве искусства перед жизнью должна вызвать адедкватную позицию читателя, согласного с героем-писателем в вопросе об эстетических отношениях искусства и действительности.
Известно отрицательное отношение Набокова к «гражданскому» типу писателя, не отвечающего его эстетической системе координат, к тому, кто ярче всего воплощал этот тип, если судить по резким суждениям в его адрес в романе «Дар», — это Н. Г. Чернышевский. Но даже в этом романе, как писал В. Сердюченко, нет места однобокому восприятию Набокова как художника, для которого «эстетическое осязание жизни становится важнее самой жизни» [5]. Рассказ «Пассажир» как раз развеивает такое сложившееся восприятие, потому что герой-писатель, которому автор симпатизирует, отстаивает практически дословно идею трактата Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности»: «...Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии — только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности... Создания искусства ниже прекрасного в действительности не только потому, что впечатление, производимое действительностью, живее впечатления, производимого созданиями искусства: создания искусства ниже прекрасного... в действительности и с эстетической точки зрения» [6].
Еще один рассказ Набокова, в повествовательной структуре которого также имеется процесс создания текста, выводящий к авторскому обобщению о сущности творчества, искусства,— рассказ «Бахман» (1924). Герой-рассказчик читает в газете новость о том, что недавно умер композитор Бахман, и вспоминает о женщине, любившей его. При этом передает читателю историю, которую узнал от другого человека — антрепренера композитора. Портрет женщины, госпожи Перовой, дан также со слов антрепренера Зака, но уже украшенный субъективностью рассказчика («Я особенно ярко представляю себе...): «...она знала, что некрасива, не в меру худа, что бледность ее кожи болезненна, — но эта стареющая женщина с лицом неудавшейся мадонны была привлекательна именно тем, чего больше всего стыдилась, — бледностью губ и едва заметной хромотой, заставлявшей ее всегда ходить с тростью» [4, c. 171].
То есть герой-рассказчик дает собственную интерпретацию рассказа антрепренера о «миром забытом, славном пианисте и композиторе», часто перебивая повествование непосредственным словом Зака. Делается это для того, чтобы подчеркнуть двусмысленность содержащейся в повествовании информации о любви Бахмана и Перовой, где голос рассказчика и слово Зака часто противоречат друг другу в передаче этой любовной истории. Если Зак настаивает на том, что композитор был почти равнодушен к женщине, то в основном сюжете подчеркнута мысль рассказчика о том, что только после знакомства Бахмана с Перовой «началась настоящая, мировая — но какая короткая — слава этого удивительного человека» [4, с. 173].
Так, со слов Зака передано впечатление Бахмана о героине после первой встречи, но это слова именно Зака, не способного внятно передать это впечатление, заменившего своим: «…она произвела впечатление необыкновенно темпераментной — как он (т. е. Зак. — С. И.) выразился, — необыкновенно издерганной женщиной, даром, что губы и прическа были у нее такие строгие» [4, с. 172]. По ходу повествования рассказчик может испытывать неуверенность, передавать вероятность, возможность разных ситуаций. Например, согласно одному из его убеждений, женщина что-то нашла в этом пианисте, возможно, потому что сама она в браке не нашла счастья. Зато Зак вполне уверен, что славу Бахмана погубила Перова. Ему неведомо, что именно его нечаянные слова привели к болезни и смерти госпожи Перовой — она простудилась, разыскивая Бахмана в указанном Заком месте, тогда как он был дома после отказа от своего концерта, не обнаружив ее в первом ряду. Зак рассказывает об этих событиях, понимая их превратно: «Я не знаю, собственно, что потрясло его так: между нами говоря, он никогда не любил этой несчастной женщины. Как-никак она погубила его. Бахман после похорон исчез бесследно» [4, с. 178]. Правда, до этого он уверял, что после знакомства с Перовой Бахман «еще никогда так хорошо так безумно не играл и что потом с каждым разом играл все лучше и все безумнее» [4, с. 174].
Вот почему рассказчику потребовалось дополнить этот рассказ собственной интерпретацией. Последнюю ночь перед смертью героини рассказчик интерпретирует с неожиданным пафосом: «Я думаю, что эти двое, полоумный музыкант и умирающая женщина, нашли в это ночь слова, какие не снились величайшим поэтам мира» [4, с. 178]. Пафос не ложен, но в нем нет теплоты, горечи, которые вполне сравнимы с равнодушием Зака: ему гениальный пианист нужен было только для того, чтобы «завинтить» его — т. е. получить прибыль с концертов. Повествование завершается словами этого бездушного, здравомыслящего человека, который через шесть лет увидев опустившегося Бахмана, не окликнул его.
Повествование в рассказе создается столкновением мнений двух ненадежных рассказчиков, которое и приводит читателя к пониманию, что оба они одинаково заблуждались, сводя гений музыканта к безумству и называя его любимую женщину полоумной. Рассказ посвящен авторскому представлению о романтическом герое-художнике, не понятом обывательским сознанием. Только любимая женщина могла понимать и поддерживать искры гениальности, подпитывать своей любовью несравненное искусство музыканта.
Очень лиричен благодаря романтической концепции образа художника, его истинного предназначения рассказ Набокова «Слово» (1922) Новеллистическое событие в нем — сновидение героя, оказывающегося в раю и встречающего ангелов с их величием и недоступностью. Да и темой разговора героя с ними станет волнующая судьба его родины, попытка высказать одному из ангелов его волнение по этому поводу, но почему-то чувствует, что это у него плохо получается. «Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц отражался в наклонном зеркале... о первых моих стихах в кобальтовой школьной тетради...» [4, с. 52]. Любовь героя к своей родине овеяна чувством ностальгии, когда мысли о покинутой России сопровождаются упоминанием мелких и незначительных предметов: сгоревший дом, школьная тетрадь, серый камень, шмели и липы. Эти детали малозначительны сами по себе, но вместе они рисуют целостную картину оставленной прежней жизни. Герой рассказа пытается передать свое беспокойство в приподнятом стиле, но при этом остается на уровне «незначительных» деталей, потому что вновь автор передает мысль о том, настоящей, истинной любви не нужен пафос.
Рассказ Набокова «Весна в Фиальте» (1936), как и рассказ «Слово», лиричен, повествование от первого лица строится по типу личного дневника. Герой-рассказчик приезжает в Фиальту, где встречает свою давнюю знакомую Нину и уходит в воспоминания с головой: «Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего пятнадцатилетнего… назвать в точности не берусь: приятельства? романа?... — она как бы не сразу узнавала меня; и ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее...» [4, c. 422]. В рассказе почти отсутствуют диалоги, превалирует речь героя-рассказчика, постепенно убеждающего читателя в своем собственном чувстве к Нине. А ведь все содержание воспоминаний героя далеко от любовной темы — может показаться, что она неожиданно врывается только в финальном признании.
О том, что герой рассказа — творческая личность, становится понятным в не раз подчеркнутой им иронии по отношению к мужу Нины — писателю, которая вызвана сомнением о присутствии в нем таланта художника, хотя в его субъективности и заложена нота ревности: «Теперь слава его потускнела, и это меня радует: значит, не я один противился его демоническому обаянию; не я один испытывал офиологический холодок, когда брал в руки очередную его книгу» [4, с. 428]. Зато в финале, где говорится об аварии, в которой погибла Нина, субъективное мнение обрамлено в форму поэтичную, которая выдает в герое художественную натуру: «Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной» [4, с. 438]. Да и в начале знакомства с творчеством мужа Нины хорошо видна орнаментальность перволичного повествования, выдающего в герое глубоко поэтичную личность: «В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад... но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через это странное драгоценное стекло...» [4, с. 427].
Рассказ оценивается набоковедами как лучший из рассказов писателя в значительной степени благодаря сочному описанию внутренней жизни героя. Ее реалии узнаваемы: мокрые пегие стволы платанов; мокрые можжевельник, ограды, гравий; свист дрозда в миндальном саду за часовней, далекое за вуалью воздуха море. Как писал исследователь, в рассказе «Весна в Фиальте» актуализируется художественный дискурс детали описываемой обстановки [2]. Да, Набоковым создается речевой и психологический облик героя-рассказчика, настолько ярко и контрастно переданы им детали предметов настоящего, а визуальный диапазон далекого прошлого («чистая деревенская зима», «красный сарай посреди белого поля», «многообещающий свет отдаленного огня», «зимняя неразговорчивая ночь») призван создать кинематографически динамичный ряд, способный передать чувства героя, находящегося одновременно в прошлом и настоящем.
Мотивный ряд также важен для повествовательной формы рассказа «Весна в Фиальте». Пронизывающий весь рассказ мотив железной дороги, сопровождающий ностальгические воспоминания героя-эмигранта о встречах с Ниной, также призван подчеркнуть отсутствие границы между реальностью воспоминания, воображения и настоящей реальностью в сознании творческой личности. С темой творчества связан, продиктован ею в рассказе мотив упущенного счастья, несостоявшейся любви, обретающий символическое обобщение. Так, поэтичное воспоминание героя о первой встрече с Ниной, пришедшее на память в момент их последнего свидания, пронизано чувством мучительной ностальгии: «Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом должно быть, судя по тем местам, где время износилось. Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее лужском имении, чистой деревенской зимой... Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев...» [4, с. 423–424]. Возникновение любви героя в момент знакомства с Ниной совпало с «многообещающим заревом далекого пожара», который уничтожил затем «звонкие» очаги прошлой дворянской культуры и напророчил «неподвижную темноту» будущего: случайность встреч, долгое непонимание глубокого чувства любви, мучительные расставания и, наконец, трагическую разлуку. Так описание давней встречи героя с любимой женщиной поднимается до символического выражения автобиографической темы потерянной родины. Форма повествования в рассказе, построенная на столкновении мира воображения (времени воспоминания) и реального мира (времени рассказывания) в сознании обладающего творческим даром героя-рассказчика, позволяет, в сущности, прочитать рассказ как особый лирический «текст в тексте», как воплощение авторского эстетического дискурса.
Таким образом, в рассказах о художниках Набокова пространственновременная структура текста, построенная на споре/диалоге субъектов повествования о творчестве, становится частью более широкого и объемного пространства — внутреннего мира автора-творца. Такая структура способна вырасти до художественного обобщения о мире творчества, его законах, его назначении, которое становится на глазах читателя эстетическим манифестом автора.
Список литературы Рассказы В. В. Набокова о художниках как эстетический манифест
- Боровская Е. Р. Герой-художник в русской прозе начала и конца XX века: автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 2000. 29 с.
- Карпенко Л. Б. Смысл и приемы его актуализации в художественном дискурсе (по рассказу В. В. Набокова "Весна в Фиальте") // Язык - текст - дискурс: проблемы интерпретации высказывания в разных коммуникативных сферах: материалы междунар. конф. Самара: Изд-во "Универс групп", 2011. С. 37-41.
- Левин Ю. И. Биспациальность как инвариант поэтического мира Набокова // Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 323-392.
- Набоков В. В. Полное собрание рассказов / сост. А. Бабиков; 3-е изд. СПб.: Азбука-Аттикус, 2015. 752 с.
- Сердюченко В. Чернышевский в романе Набокова "Дар" [Электронный ресурс]. URL: https://coonib.com/b/40870/read (дата обращения: 23.06.2020).
- Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.m/c/chemyshewskij_n_g/text_0410.shtml (дата обращения: 23.06.2010).