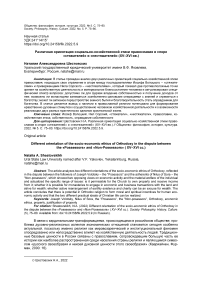Различная ориентация социально-хозяйственной этики православия в споре «стяжателей» и «нестяжателей» (XV-XVI вв.)
Автор: Шестовских Наталия Александровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ двух различных ориентаций социально-хозяйственной этики православия, нашедших свое отражение в споре между последователями Иосифа Волоцкого - «стяжателями» и приверженцами Нила Сорского - «нестяжателями», который показал две противоположные точки зрения на хозяйственную деятельность и материальное благосостояние человека и актуализировал специфический спектр вопросов: допустимо ли для Церкви владение собственностью и получение доходов от нее; возможно ли монастырям заниматься хозяйственно-деловыми операциями с землей и стремиться к богатству; может ли активное переустройство земного бытия и благотворительность стать оправданием для богатства. В статье делается вывод о наличии в православной религии потенциала для формирования нравственно-духовных стимулов к осуществлению человеком хозяйственной деятельности и о возможности реализации двух разных практических идеалов христианской жизни.
Иосиф волоцкий, нил сорский, «стяжатели», «нестяжатели», православие, хозяйственная этика, собственность, оправдание собственности
Короткий адрес: https://sciup.org/149140218
IDR: 149140218 | УДК: 241
Текст научной статьи Различная ориентация социально-хозяйственной этики православия в споре «стяжателей» и «нестяжателей» (XV-XVI вв.)
В научных работах, посвященных хозяйственной этике русского православия, существуют разные точки зрения на данную проблему.
Некоторыми исследователями высказываются предположения о «неспособности православия решать рыночные задачи, поскольку оно исходит из принципов государственности, патриотизма, коллективизма (“соборности»”), которые отнюдь не стимулируют индивидуализм и стремление к богатству» (Элбакян, Медведко, 2001: 103). По мнению Т.Б. Коваль, «в русской православной духовной традиции, в отличие от католической, сложилось убеждение, что добродетельность не прямо, а обратно пропорциональна высоте позиции на социальной лестнице» (Коваль, 2014: 189).
Существует иная точка зрения, в соответствии с которой «российское православие может быть вполне совместимо с современным развитием, а православные ценности могут дать органичную основу для модернизации нашей страны, ее вхождения в глобальную экономику»1.
В поиске ответа на вопрос о принципиальной возможности православной религии формировать духовные стимулы хозяйственной деятельности и определять нравственные критерии экономического поведения в обществе, по нашему мнению, особого внимания заслуживает спор «стяжателей» и «нестяжателей», ставший главным событием в духовной жизни Московского царства XV–XVI вв. Несмотря на то, что отдельные аспекты религиозного мировоззрения «иосифлян» и «нестяжателей» рассматривались многими выдающимися учеными и богословами (Карташев, 2009; Лурье, 1956; Флоровский, 2009 и др.), следует признать недостаточность религиоведческих исследований, посвящённых вопросу социально-хозяйственной этики православия.
Главной темой спора было отношение к монастырскому землевладению и к церковной собственности, но по своей сути это был спор о двух противоположных практических идеалах человеческой жизни вообще и ее хозяйственной части в частности. Как писал А.В. Карташев, «нигде на всем православном Востоке вопрос этот, не в его богословско-теоретической постановке (как это было в греческом исихазме), а в морально-практическом переживании, не достиг такой остроты и совестливой оценки с точки зрения спасительности и святости» (Карташев, 2009: 514).
Спор «стяжателей» и «нестяжателей» в русской культуре показал две полярные точки зрения на материальное благосостояние и поставил перед богословами специфический спектр вопросов: допустимо ли для Церкви владение земельной собственностью и получение доходов от нее; возможно ли монастырям заниматься хозяйственно-деловыми операциями с землей и стремиться к богатству; может ли активное переустройство земного бытия и благотворительность стать оправданием для богатства, не приведет ли это к «обмирщению».
Для постановки указанной проблемы в российском обществе должны были сложиться определенные исторические условия.
Как отмечает А.И. Алексеев, «эволюция монастырской собственности происходила от ранних форм (право на получение доходов с определенного владения) к вотчиновладению в полном смысле» (Алексеев, 2002: 223), и ко второй половине XIV в. именно земельная собственность становится материальной основой обеспечения Церкви. Последовавшее постепенное установление политической стабильности и рост материального благосостояния в сочетании с формированием великокняжеского единодержавия постепенно привели к стагнации вектора духовной жизни Руси, заложенного Сергием Радонежским, и поискам иных опор, в том числе и в духовном спасении. Эсхатологические ожидания в 1492 году, мистические настроения эпохи спровоцировали поиски определенных «гарантий» загробного существования, и влияние монастырей стало поддерживаться распространением поминальной практики и обеспечением её земельными вкладами. В такой ситуации владение ими действительно могло стать соблазном для тех, кто отступал от подлинного аскетического подвига.
Обретение Русской Церковью автокефального статуса наряду с постоянным ростом влияния московских князей, политику которых поддерживали митрополиты, оживление хозяйственноэкономических отношений на Руси определили ориентацию Церкви на расширение и упрочение материальной базы своего существования, а также на усиление роли в государственных структурах. В ее руках быстро сосредоточился огромный земельный фонд.
Однако московские государи, рассчитывавшие на лояльность иерархии, не испытывали сомнений в установлении пределов влияния Церкви: она должна была являться их опорой, а не соперником. Внутренняя эволюция и динамика церковно-государственных отношений не соответствовали представлениям о сильной независимой позиции Церкви. Наличие крепкой материальной основы в виде владения землей в условиях единого государства давало ей возможность реализации своей роли «молитвенницы» и благотворительницы, но в глазах монарха могло стать серьезной помехой для централизации власти. Великий князь Иван III давно вынашивал планы изъятия церковных земель в пользу государства, поскольку наличие освоенных свободных земель было крайне ему необходимо для передачи их служилому дворянству, становившемуся основой великокняжеского войска и главной социальной опорой монархии (Зимин, 1977).
Было бы ошибкой рассматривать дискуссионный вопрос о церковном землевладении лишь как результат усилий и стремлений светской власти. К моменту проведения Собора 1503 года в русском обществе уже успели сложиться две концепции монашества и два представления об облике Церкви в целом. Нил Сорский, глава «нестяжателей», и Иосиф Волоцкий, представитель партии «стяжателей», или «иосифлян», стали наиболее яркими выразителями этих двух концепций.
Модель Нила Сорского – это скитский образ монашеского подвига, подразумевающий жизнь немногочисленных иноков в удаленном от мира месте, где они сочетают созерцательную молитву с физическим трудом, которым только и добывают себе пропитание, удовлетворяя свои телесные потребности в минимальном объеме. В сущности, эта схема во многом повторяет лаврский тип египетских монастырей IV в., основоположником которого был Антоний Великий. В кельях Сорского скита разрешалось иметь только книги, иконы и самое необходимое для жизни инока. Содержать в скиту скот не позволялось. Даже в случае невзгод и голода они не должны ни о чем просить «мир», но переносить все тяготы, уповая лишь на Бога. Нил Сорский полагал, что внешний мир, пусть даже в общежительном монастыре, все равно устроен так, что жить в нем праведно невозможно, поэтому надо стать как можно более независимым от него1. Иноки в Ниловом скиту жили поодиночке в кельях, стоявших на значительном удалении друг от друга, собираясь дважды в неделю в Церковь для участия в богослужении. Скитское монашество не допускало владения землей, тем более сёлами с крестьянами. Хотя на рубеже XV–XVI вв. сам факт этого еще не означал крепостничества в полном объеме, так как до конца XVI в. крестьяне могли покинуть своего хозяина, уйдя на другие земли, однако глубинной сути вопроса о владении «душами» это не меняло. А.И. Алексеев отмечает, что «критиковался не только факт обладания, но и потенциальное стремление к накоплению богатства» (Алексеев, 2002: 183), то есть от материальных благ надо было не отказываться, а вообще не иметь к нему «пристрастия».
Эти взгляды сближали Нила Сорского с воззрениями Сергия Радонежского и с монахами – исихастами Святой горы Афон, где он побывал. Таким образом, «нестяжательство» проявилось на Руси на волне недовольства крепнущим монастырским и общецерковным богатством и небеспристрастной политической позицией иерархов, но имело философский смысл и глубокие корни во всей предшествующей истории православия. Оно входило в традиционную концепцию идеала монашеской жизни и подразумевало прежде всего внутреннюю духовную молитву, т.е. «умное делание», «трезвение сердца» как ее суть в сочетании с глубоким изучением Евангелия и святоотеческих творений.
Хозяйственная жизнь монахов сводилась к минимуму, она подразумевала даже отказ от ежедневных богослужений и храмового строительства, от широкой благотворительной деятельности. Такой образ жизни и духовный настрой могли выдержать далеко не все, и Нил Сорский отстаивал запрет на постриг непосредственно в скиту, желая, чтобы монахи прежде всего получили опыт в общежительных монастырях. Выступал он и против пострижения неграмотных, что еще более сужало круг возможных его сторонников и адептов. При этом ни от них, ни от его противников не могло укрыться главное – очень мало касаясь внешних правил поведения монахов, весь смысл монашеского подвига и всей деятельности Церкви Нил Сорский видел во внутреннем созерцательном духовном развитии и самосовершенствовании, личной аскезе и покаянии. Спасения предлагалось достигать силой духа, а не с помощью милостыни и заупокойных молитв других людей или тем более хозяйственной деятельностью в любых благих целях.
Как и Нил Сорский, Иосиф Волоцкий отвергал «стяжание» ради личного обогащения, однако делал упор на социальном предназначении Церкви, рассматривая имущество монастырей как средство благотворительности и гарантию сильной и независимой от государства религиозной структуры (Алексеев, 2010). Линия Иосифа Волоцкого – дальнейшее развитие общежительной традиции в монашестве на основе строгой уставной дисциплины. Согласно ей поощрялось монастырское землевладение и рачительное управление им, но ставилось условие, что коллективное богатство монастыря сочетается с личной бедностью каждого монаха и расходуется ими на социальную и культурную деятельность Церкви и общества (Золотухина, 1981). Успенский монастырь Иосифа Волоцкого с самого начала своего существования владел селами. Позднее обитель получила новые земельные вклады от удельных и служилых князей и иных крупных землевладельцев. В общей сложности в бытность Иосифа игуменом Волоцкого монастыря обитель получила 27 вкладов в виде новых территорий. Кроме того, обителью было куплено 21 земельное владение и произведено 10 обменов (Зимин, 1977: 172–173). Жизнь монахов была основана на Уставе монастыря, написанного самим Иосифом (Лурье, 1956) и требовавшего строжайшего соблюдения дисциплины. За нарушение правил полагались детально разработанные наказания в зависимости от тяжести проступка.
Со временем средств для содержания монастыря требовалось все больше: значительно возросло количество монахов, развернулось храмовое строительство, велась широкая благотворительная деятельность. Главным источником их стала упорядоченная поминальная практика. Иосиф Волоцкий сам объяснял, почему совершать заупокойные службы даром для монахов невозможно и на них установлена твердая цена (1 руб. – на год, 50 руб. – «навечно») (Алексеев, 2002: 24).
С точки зрения «нестяжателей», зависимость молитвы от размеров земельного или денежного вклада являлась откровенной симонией, а монастырь, даже в роли благотворителя пропускающий через себя и перераспределяющий богатства, признавался не соответствующим монашескому идеалу, однако сам Иосиф и его единомышленники были абсолютно уверены, что они строго следуют нормам монашеского общежития и православного вероучения.
Обе стороны апеллировали к совершенно разным богословским традициям. По мнению Иосифа Волоцкого, Церковь имела не право собственности, а своего рода право распоряжения на полученные материальные ценности, направляя их на благотворительность и строительство храмов. Поэтому «церковное богатство – это богатство нищих, а характер церковного землевладения, посвященного Богу, является сакральным, и земли отчуждены быть не могут в принципе. Монастырь получает облик рачительного вотчинника-хозяйственника и рассматривает эту деятельность в качестве одной из непреложных задач, в частности, приказчиками по управлению деревнями становятся все те же монахи» (Шестовских, 2019: 74). А.В. Карташев отмечает по этому поводу: «Это положительное отношение к земному благоустройству (ныне сказали бы это – “христианская экономика и политика”) есть простое бесхитростное (без богословских обобщений) древнерусское строительство “Града Божия” на Земле в нашей национальной истории» (Карташев, 2009: 518).
В концепции «иосифлян» по сравнению с «нестяжательством» принципиально иным является понимание самой сути монашества. В отличие от Нила Сорского, Иосиф Волоцкий понимал ее как служение, как «религиозно-земскую службу» (Алексеев, 2002: 50), которую несет активная, сильная Церковь и которая неотделима от земных обязанностей.
Между такими представлениями и нестяжательством, а также наследием Сергия Радонежского имеются серьезные концептуальные различия, однако понятно, почему мирянам, которых и сам Иосиф Волоцкий упрекал за низкий уровень христианского самосознания, его путь был понятнее и ближе. Да и слишком многим из церковных кругов – тоже. В конечном счете Церковь стала подстраиваться под потребности большей части русского общества и единодержавного монарха, укрепляя свое материальное и политическое положение, но не так уж редко отступая духовно. По пессимистическому мнению Г.П. Федотова, именно в этот период берет свое начало «трагедия древнерусской святости», проявившаяся в скорой окостенелости и обмирщении Церкви, «выхолащивании» духовности под давлением мирских интересов (Федотов, 2003).
Следует особо подчеркнуть, что разногласия самих Нила Сорского и Иосифа Волоцкого никогда не принимали крайних форм в виде взаимных обвинений и безапелляционных утверждений своей исключительной правоты. Нил Сорский, соблюдавший обет безмолвия, никого не поучал и вообще уходил от дискуссий. Иосиф Волоцкий, напротив, показал себя незаурядным полемистом, но выпадов против Сорского никогда не допускал. Напротив, усердные и излишне ревностные последователи обоих великих старцев стали с изрядной долей субъективизма толковать их убеждения как взаимоисключающие, так что в деятельности их приверженцев с обеих сторон в равной мере стал проявляться не просто антагонизм, но и откровенная враждебность по отношению друг к другу.
В своих крайних проявлениях «стяжательство», выступавшее за сохранение монастырской собственности, в отрыве от личного внутреннего подвига монахов, к которому призывал Иосиф Волоцкий, превращалось в стремление к комфортному существованию, компромиссу с государственной властью и в итоге – к духовно-нравственной деградации. «Нестяжательство», будучи взятым в своей крайней форме, также вело в тупик: слабая, не обладающая влиянием Церковь становилась бессильной перед лицом государства и не могла оказывать существенного влияния на общественную и культурную жизнь людей.
Традиция, заложенная Иосифом Волоцким, впоследствии стала основой для активного социального действия и для развития хозяйственной этики. В ней собственность и обладание богатством не отрицалось, а приветствовалось при условии, что значительная его часть идет на нужды благотворительности, храмовое строительство и культурно-просветительские цели (Орехов, 2019).
Традиция, ведущая свое начало от Нила Сорского, возродилась в XVIII–XIX вв. и оказала глубокое воздействие на труды и проповеди выдающихся подвижников той эпохи: Димитрия Ростовского, Тихона Задонского, Феофана Затворника и Оптинских старцев (Костюк, 2016). Идеал христианина – «странник» на этой бренной земле, не привязанный ни к чему мирскому, аскет, чей взор направлен на внутреннее духовное развитие и самосовершенствование. Активная хозяйственная деятельность в этой системе координат представляется бесполезной, а собственность – лишним бременем и тяжким искушением.
По нашему мнению, спор между «стяжателями» и «нестяжателями» имел глубокие религиозно-философские корни, заложенные еще платонической традицией и связанные с двумя разными представлениями о благе, в соответствии с которыми существует две возможности осуществления практического идеала человеческой жизни. В соответствии с первой из них необходимо удалиться от всякой привязанности к мирскому и стремиться к созерцанию Божественной сущности, вторая возможность предполагает сознательное и активное участие человека в делах Бога, в приближении мира и многообразия вещей к своей полноте, что ставит деятельную жизнь выше созерцательной.
Исходя из представленного сравнительного анализа двух различных ориентаций социально-хозяйственной этики в споре «иосифлян» и «нестяжателей» можно сделать вывод о том, что православное учение обладает потенциалом для формирования религиозно-духовных стимулов хозяйственной деятельности. Православная этика, основанная на традиции, заложенной Иосифом Волоцким, может составить основу для мобилизации хозяйственной активности человека. «Мироотреченность» православия является одним из путей монашеского подвига, а не характеристикой всего восточного христианства. Как отмечал русский религиозный философ С.Н. Булгаков, миропонимание православной веры, основанное на дисциплине «аскетического послушания» и «хождения перед Богом … имеет могучие средства для воспитания личности и выработки чувства личной ответственности и долга, столь существенных как для экономической деятельности, так и для всех видов общественного служения»1.
Русская православная церковь признала святость обоих подвижников – и Нила Сорского, и Иосифа Волоцкого, подчеркнув тем самым возможность осуществления двух практических христианских идеалов хозяйственной жизни. Но сумела ли она на практике примирить их? Этот вопрос остается открытым.
Список литературы Различная ориентация социально-хозяйственной этики православия в споре «стяжателей» и «нестяжателей» (XV-XVI вв.)
- Алексеев А.И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XVI-XVI вв. СПб., 2002. 352 с.
- Алексеев А.И. Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480-1510-х гг. СПб., 2010. 390 с.
- Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV-XVI в.). М., 1977. 356 с.
- Золотухина Н.М. Иосиф Волоцкий. М., 1981. 96 с.
- Каариайнен К., Фурман Д. Религиозность в России в 90-е годы // Старые церкви, новые верующие: религия в массовом сознании постсоветской России. СПб. ; М., 2000. С. 7-48.
- Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 2009. Т. 1. 783 с.
- Коваль Т.Б. Религия и экономика: труд, собственность, богатство. М., 2014. 350 с.
- Костюк К.Н. История социально-этической мысли в Русской православной церкви. СПб., 2016. 448 с.
- Лурье Я.С. Краткая редакция «Устава» Иосифа Волоцкого - памятник идеологии раннего иосифлянства // Труды Отдела древнерусской литературы. 1956. Т. 12. С. 116-140.
- Орехов А.М. Философия экономики в России: рождение традиции. М., 2019. 154 с. https://doi.org/10.12737/monography_5ba0ef445c36f6.69236473
- Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 2003. 700 с.
- Флоровский Г.В. Пути русского богословия. М., 2009. 848 с.
- Шестовских Н.А. «Две правды» в споре стяжателей и нестяжателей // Семнадцатый славянский научный собор «Урал. Православие. Культура». Мир славянской письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании. Челябинск, 2019. С. 72-76.
- Элбакян Е.С., Медведко С.В. Влияние религиозных ценностей на экономические предпочтения верующих россиян // Социологические исследования. 2001. № 8. С. 103-111.