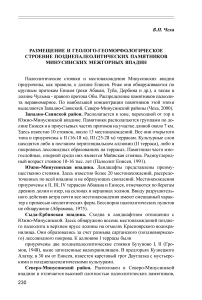Размещение и геолого-геоморфологическое строение позднепалеолитических памятников Минусинских межгорных впадин
Автор: Чеха В.П.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология каменного века палеоэкология
Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521187
IDR: 14521187
Текст статьи Размещение и геолого-геоморфологическое строение позднепалеолитических памятников Минусинских межгорных впадин
Сыда-Ербинская впадина. Сходна в ландшафтном отношении с Южно-Минусинской. Здесь обнаружено восемь местонахождений позднего палеолита в верхнем ярусе долины на отмелях Красноярского водохранилища. Они образовались за счет размыва сартанского (поздневюрмско-го) лессовидного покрова. К аллювию I террасы были приурочены две позднепалеолитические стоянки Бузуново I, II (Громов, 1948), ныне затопленные водохранилищем. В предгорьях Кузнецкого Алатау, в 30 км от Енисея, известен карстовый грот Двуглазка с мустьерс-кими и позднепалеолитическими культурами.
Северо-Минусинский район. Расположен в Северо-Минусинской впадине и отличается высокой плотностью палеолитических памятников, 230
на порядок превосходящий этот показатель не только для впадин Минусинского межгорного прогиба, но и по отношению к другим районам. Памятники приурочены исключительно к долине Енисея, где на протяжении около 100 км известно 35 стоянок и свыше 60 местонахождений разных эпох палеолита (Палеолит Енисея, 1991; Хроностратиграфия..., 1990). Северо-Минусинский район, по сравнению с более южными впадинами, в позднем плейстоцене был, как и ныне, менее засушливым. Благоприятными являлись морфоструктурный и ландшафтный факторы. На всем протяжении впадины Енисей протекает в пограничной между впадиной и Восточным Саяном зоне, разделяя горные таежные и лесостепные, степные ландшафты. Такое положение определяло и действие известного в экологии «эффекта краевых границ». Важным для человека следствием этого эффекта могли быть повышенные концентрации и видовое разнообразие животных, а также сосредоточение миграционных потоков крупных млекопитающих в пограничной зоне.
Наиболее распространенными являются стоянки и местонахождения позднего палеолита. Плотность заселения людьми в эту эпоху была неравномерна. Места максимальной концентрации стоянок известны под названием Таштыкской, Кокоревской, Новоселовской групп (Цейтлин, 1979); Куртакского археологического района (Хроностратиграфия..., 1990). Во всех случаях они приурочены к краевым частям низкогорных и холмистых массивов, прорезаемых Енисеем. Это Батеневский кряж и зона, переходная от кряжа к впадине (Таштыкская группа), северное крыло Кокоревской антиклинали, выраженное в виде холмистого, сильно расчлененного массива, подступающего к пойме Енисея (Кокоревская группа), юго-западное окончание Новоселовского низкогорного и холмистого поднятия (Новосе-ловская группа), юго-восточный склон того же поднятия (группа позднепалеолитических памятников в Куртакском районе). Очевидно, что на таких участках было благоприятное для человека сочетание геоморфологических, гидрологических, ландшафтных факторов.
Культурные слои позднепалеолитических стоянок располагаются чаще всего в перигляциальном супесчаном аллювии I или по СМ. Цейтлину (1979) II террасы высотой 10-12 метров. Мощность аллювия обычно составляет около 2-3 м, иногда уменьшаясь до 0,7 м (Кокорево IV), либо увеличиваясь до 5-7 м (Кокорево II). Радиоуглеродный возраст стоянок 1613 тыс. лет. Покровные лессовидные образования на I террасе имеют мощность 2-3 м, стоянки в них редки, возраст памятников от 13 до 10,3 тыс. лет (Цейтлин, 1979). Иногда кратковременные поселения людей позднего палеолита отмечаются в лессовидных покровах III и IV террас.
После создания Красноярского водохранилища (1972 г.) в его береговой зоне над уровнем затопленного Енисея 40-70 м стали обнаруживаться позднепалеолитические памятники, впоследствии отнесенные к группе «памятников высоких террас» (Палеолит Енисея, 1991). Но связь с террасами здесь неоднозначна. В одних случаях ее можно предполагать по наличию рассеянных галечников и валунов (служивших, кстати, сырьем для производственной деятельности человека на высоких уровнях), по выровненным площадкам, как цоколям древних террас (Разлив, Афанасьева гора, Аешка IV). В других случаях такая связь проблематична (Елань, Каштанка, Куртак III). Более определенно намечается ассоциация с долинами небольших притоков Енисея. Вследствие изложенного для рассмотренной группы палеолитических стоянок было предложено название «памятники верхнего яруса долины Енисея» (Дроздов, Чеха, 2003).
Отложения террас, логов нижнего яруса долины Енисея, включающие основную часть памятников позднего палеолита, изучены достаточно подробно (Громов, 1948; Цейтлин, 1979). Этого нельзя сказать о покровных четвертичных отложениях с позднепалеолитическими стоянками в верхнем ярусе долины. По данным наших исследований на участках позднепалеолитических стоянок и местонахождений (на отрезке от Батеневского кряжа до п. Новоселово) покровные четвертичные отложения в верхнем ярусе долины Енисея часто залегают непосредственно на коренных породах, либо на продуктах древних кор выветривания. Мощность их относительно невелика — до 8 м, редко больше. В возрастном отношении они преимущественно сартанского возраста и сопровождаются комплексами артефактов позднего палеолита, остатками фауны позднепалеолитического комплекса. В обнажениях преобладает супеси, в верхних частях разрезов имеющие характерные признаки лессов.
Культурные слои в сартанских отложениях верхнего яруса долины имеют пока единичные радиоуглеродные даты, которые укладываются в тот же интервал, что и для стоянок на низких террасах - от 11,6 тыс. лет до 16,9 тыс. лет. (Палеолит Енисея, 1990). Относительный возраст может определяться стратиграфией покровных образований. Более древние стоянки располагаются в нижней толще глинистых супесей с коричневатой окраской (Тарачиха, Дивный I, Куртак III). Финальнопалеолитические стоянки обнаруживаются на глубине до 1 м в толще серых лессовидных супесей (Чегерак, Первомайское I). Но местные особенности разрезов, как отмечалось, могут затушевать эту картину. Так, стоянка конца позднего палеолита Аешка III располагается в красноцветных суглинках, завершающих разрез покровных поздневюрмских образований. Причиной этого является наличие вблизи стоянки выходов выветрелых до глин вишневых алевролитов и аргиллитов девона.
Сартанские отложения в верхнем ярусе долины Енисея, в СевероМинусинской впадине, а также на стоянке Малая Сыя подстилаются ископаемым почвенным комплексом каргинского времени (средний вюрм). В районе он получил местное название куртакский почвенный комплекс (Хронография..., 1990, Дроздов, Чеха, 2003). Строение его сложное. В верхней части это комковатые пористые буровато-серые, буровато-коричневые суглинки с включением линз, полос черных суглинков. Последние группируются в один-два прерывистых горизонта. Имеются следы солиф- люкционного течения. Внизу повсеместно фиксируются о статки вероятно черноземных почв с инволюционными, солифлюкционными текстурами и следами других мерзлотных явлений. В почвенном комплексе отмечаются две генерации псевдоморфоз по жильным льдам. Морфология и строение псевдоморфоз позволяют говорить о наличии во время формирования жильных льдов многолетней мерзлоты. В верхней части куртакского почвенного комплекса обнаружены позднепалеолитические стоянки Каштанка, Куртак IV. Радиоуглеродный возраст первой стоянки 20,8 - 24,8 тыс. лет, второй - 23,5 - 24,2 тыс. лет. На стоянке Каштанка в нижней части почвенного комплекса с возрастом (С14) 29,4 тыс. лет обнаруживаются единичные артефакты. Они представляют, очевидно, остатки разрушенного мерзлотными процессами более древнего культурного слоя. Для стоянок среднего вюрма, также как и для сартанских, отмечается приуроченность к древним эрозионным формам. Так, стоянка Каштанка была расположена на отлогом склоне большого древнего лога, в 2 км от его прежнего устья (Археология, геология и палеогеография..., 1992).