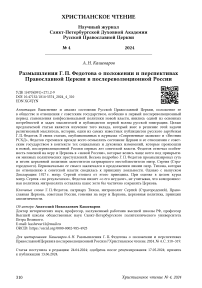Размышления Г. П. Федотова о положении и перспективах православной церкви в послереволюционной России
Автор: Кашеваров А.Н.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История русской церкви в советской России
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
Выяснение и анализ состояния Русской Православной Церкви, положение ее в обществе и отношения с советским государством, особенно в первый послереволюционный период становления конфессиональной политики новой власти, явились одной из основных потребностей и задач мыслителей и публицистов первой волны русской эмиграции. Целью предлагаемой статьи является изучение того вклада, который внес в решение этой задачи религиозный мыслитель, историк, один из самых известных публицистов русского зарубежья Г. П. Федотов. В своих статьях, опубликованных в журналах «Современные записки» и «Вестник РСХД», Федотов стремился прежде всего осмыслить состояние Церкви и ее отношения с советским государством в контексте тех социальных и духовных изменений, которые произошли в новой, послереволюционной России первых лет советской власти. Федотов отмечал особенность гонений на веру и Церковь в «новой России», которые велись чаще всего под прикрытием мнимых политических преступлений. Весьма подробно Г. П. Федотов проанализировал суть и итоги церковной политики заместителя патриаршего местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского). Первоначально ее смысл заключался в продолжении линии патр. Тихона, которая по отношению к советской власти сводилась к принципу лояльности. Однако с выпуском Декларации 1927 г. митр. Сергий отошел от этого принципа. При оценке в целом курса митр. Сергия «по результатам», Федотов пишет «о его неудаче», не учитывая, что компромиссная политика митрополита оставляла шанс хотя бы частично сохранить Церковь.
Г. п. федотов, патриарх тихон, митрополит сергий (страгородский), православная церковь, советская Россия, гонения на веру и церковь, церковная политика, принцип аполитичности
Короткий адрес: https://sciup.org/140308472
IDR: 140308472 | УДК: 1(470)(091)+271.2-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_310
Текст научной статьи Размышления Г. П. Федотова о положении и перспективах православной церкви в послереволюционной России
13.06.2024.
В истории русского народа и государства XX в., возможно, был самым трагическим. Единая русская культура в силу исторических катаклизмов оказалась разделенной на культуру метрополии, развивавшуюся в Советском Союзе, и культуру русского зарубежья. Трагическую судьбу народа разделила и подвергшаяся гонениям и унижениям на Родине Русская Православная Церковь. Выяснение и анализ ее состояния, положение в обществе и отношения с советским государством, особенно в первый послереволюционный период становления конфессиональной политики новой власти, явились одной из основных потребностей и задач мыслителей и публицистов первой волны русской эмиграции. Значительный вклад в решение этой задачи внес религиозный мыслитель, историк, один из самых известных публицистов русского зарубежья Г. П. Федотов.
Примечательно, что историософские взгляды и оценки Г. П. Федотова далеко не всегда совпадали с идеями эмигрантских группировок. Показательны многолетние и непростые отношения Федотова с «демократической» редакцией крупнейшего толстого журнала русского зарубежья «Современные записки». По мнению Г. В. Жиркова, тип этого издания определялся задачами развития русской культуры, предоставления трибуны свободному слову, плюрализмом, внепартийностью, демократическим направлением на платформе антибольшевизма (см.: [Жирков, 2003, 213]). С ведущим редактором этого журнала И. И. Фондаминским, увлекавшимся философией религии, Федотов познакомился на съезде Русского студенческого христианского союза в Клермоне летом 1927 г. (см.: [Бойков, 1991, 12]). С тех пор они подружились. Тогда же, с 1927 г., Федотов стал активным участником Русского студенческого христианского движения, а в периодическом издании этого движения «Вестнике РСХД» и отмеченном выше журнале «Современные записки» стали печататься (под псевдонимом «Е. Богданов») важнейшие публицистические работы Г. П. Федотова, посвященные осмыслению положения Православной Церкви в советской России. Однако следует заметить, что некоторые члены редакции «Современных записок», признавая литературный талант и эрудицию Федотова, отнеслись к историку и публицисту с некоторым опасением. Например, редактор журнала М. В. Вишняк вспоминал, что «взгляды Федотова, не одна какая-либо идея, а вся его социально-политическая „система“ была чужда нам, а чаще враждебна — совсем не нашего духа» (Вишняк, 1957, 245). С другой стороны, известный общественный деятель русской эмиграции и исследователь православной культуры Н. М. Зернов отмечал, что стремления и идеи Федотова оказались неприемлемыми для консервативного крыла русской церковной эмиграции. «Его последователи мечтали о восстановлении самодержавия, которое, по их мнению, единственное могло обеспечить нормальную церковную жизнь. Они жаждали вернуться на родину и увидеть ее такой, какой она была до революции» [Зернов, 1974, 247]. Характеризуя личные качества Федотова, Н. М. Зернов подчеркивал, что «профессор Федотов был чрезвычайно сдержанным, спокойным человеком, обладавшим размеренным голосом и мягкими манерами. Но за этой благовоспитанной внешностью скрывалась исключительно сложная личность огромной духовной силы и большого мужества. Никакие соображения не могли заставить его пойти на сделку с совестью» [Зернов, 1974, 250].
В своих статьях Г. П. Федотов пытался прежде всего осмыслить те социальные и духовные изменения, которые произошли в новой, послереволюционной России первых лет советской власти. В связи с этим особый интерес и внимание его занимает церковная проблема, в которой, по меткому замечанию Федотова, «революция была мечом, разделяющим живое от мертвого» (Федотов, 1930в, 307). В 1931 г. в статье с характерным названием «Новая Россия» Федотов отмечал, что «еще мы не знаем, где остановится богоборческая ярость. Будут ли закрыты все храмы в России и уничтожен публичный культ… До сих пор можно констатировать: 1) революции удалось оторвать от религии широкие массы, воспитав в большинстве религиозный индифферентизм и выковав активное богоборчество в ничтожном, но численно энергичном меньшинстве; 2) революции не удалось уничтожить Православной Церкви, которая в гонениях проявила большую духовную силу; 3) революции удалось расколоть Православную
Церковь...» (Федотов, 1930в, 308). В связи с последним замечанием, оценивая обновленческий раскол, историк справедливо подчеркивал, что «основную массу обновленческого духовенства составили „попы“, которые больше всего на свете боялись мученических венцов и не могли вынести тяжести разрыва с государством. Если не царская, то хоть революционная, но власть — эти люди не могли жить без политического заслона» (Федотов, 1930в, 309).
Г. П. Федотов пояснял каждое из этих трех высказанных им положений. Так, касательно утверждения об охлаждении к Церкви значительных масс, публицист полагал, что это охлаждение было «далеко от прямой ненависти. Народ стал религиозным, но не богоборцем, каким его хотели сделать большевики. Народ стал религиозным минималистом, скептиком и допустил вскрытие мощей без всякого протеста, а также допустил, хотя и с протестом, ограбление храмов, но он по-прежнему крестит в них своих детей и отпевает покойников. Речь идет о минимальном ритуализме, который уживается с рационалистическим разложением религии». Касательно второго утверждения о духовной силе Православной Церкви, Федотов справедливо указывал, что «служение Церкви в годы террора было само по себе исповедничеством, которое для тысяч и тысяч стало подлинным мученичеством» (Федотов 1930в, 307). Таким образом, Церковь прошла через аскетическое очищение.
Наряду с заметным отходом от Церкви народных масс в то же время началось возвращение в Церковь значительной части интеллигенции. Обращение интеллигенции Федотов считал «естественным завершением мощного движения русской культуры конца ХХ — начала ХХ века» (Федотов, 1930в, 308). Однако мыслитель отметил и опасные настроения, «которые привносят в Церковь представители интеллигенции, например, мистический нигилизм». Федотов весьма реалистично оценивал сложившуюся к кон. 1920-х гг. ситуацию. Так, по его мнению, «Церковь не только не вобрала в себя всей старой интеллигенции, но и сам процесс ее оцерковления замедлился. Многие подошли к Церкви и остановились на пороге» (Федотов, 1930в, 308). Все же, по убеждению Федотова, именно в Церкви происходит накопление культурных сил. С легализацией Патриаршей Церкви выдвигалась задача «нового крещения Руси» — «отвоевание масс у антихриста» (Федотов, 1930в, 309). Таким образом, спасение России публицист не рассматривал на путях политической борьбы.
Г. П. Федотов был одним из вдохновителей основанной в 1930 г. в Париже «Лиги православной культуры», которая объединила остатки русской интеллигенции, вернувшейся в лоно Церкви и выступавшей под лозунгом «оцерковления русской культуры» [Зернов, 1974, 249-250]. «Оцерковление для нас — писал Федотов в статье „Проблемы будущей России“, — не подчинение внешнему авторитету Церкви. Оно есть осуществление религиозно-культурного единства, при котором Церковь не противостоит, но творит в своих недрах. Его предпосылкой является не только признание миром религиозной правды Церкви, но и пробуждение в Церкви религиознокультурных сил» (Федотов, 1931, 382).
Как мы увидим ниже, Федотов был весьма осторожен в оценках действительного положения Православной Церкви в «новой России». Но для него несомненно, что Церковь является источником всякого творчества, резервуаром духовных сил, из которого «будут питаться все живые направления русской культуры» (Федотов, 1930в, 311). Именно Церковь остается в России единственной хранительницей и носительницей духовного преемства.
Касаясь конкретного вопроса положения Православной Церкви на рубеже 1920– 1930-х гг. в советской России, Федотов в своей специально посвященной этому статье, которая была напечатана в 1930 г. в «Вестнике РСХД», признавал трудность освещения темы «в условиях нашей разобщенности от России. Здесь, в эмиграции, это нелегко, это требует внимательного изучения материалов, постоянного пересмотра непредвзятых взглядов. Трудно представить себе конкретно ту обстановку полулегальности, в которой живет Церковь. Храмы открыты, но храмы взрываются динамитом. Епископы и священники в торжественных облачениях совершают свое служение у алтаря, и они же тысячами ссылаются в Соловки и Сибирь и за это дозволенное законом, открыто совершаемое богослужение» (Федотов, 1930а, 13). Однако эти внешние противоречия не могли ввести в заблуждение, в отличие от многих иностранных наблюдателей, мыслящих представителей русской эмиграции. «Мы знаем, — убежденно писал Г. П. Федотов, — что не будет преувеличением, а точным выражением действительности назвать тот режим, в котором живет Русская Церковь, режимом гонений» (Федотов, 1930а, 14). В условиях гонений «Русская Церковь дала Христу тысячи мучеников, особенно в первые годы революции. Гонения воспламенили веру и ревность избранного меньшинства. Давно русская Церковь не знала такого цветения святости, как в наши дни» (Федотов, 1930а, 14). Публициста также поражала «крайняя и всеобщая терпимость по отношению к отступничеству». Если бы к современной России применить древнюю строгость, мало кто бы считал себя членом Церкви... Удивительно не то, что масса людей под угрозой голодной смерти совершает кощунственные акты, но то, что зачастую совершают их верующие люди, которые и не помышляют хотя бы временно выйти из состава церковного общества или искупить свое публичное отступничество публичным покаянием. Мы уже с ужасом думаем о профессорах и педагогах, которые ходят в Церковь и читают материалистические и атеистические лекции, или о набожных актерах, которые на подмостках глумятся над Христом» (Федотов, 1930а, 14). Все это свидетельствовало о глубокой деморализации в России, верующей и неверующей.
Г. П. Федотов отмечал также особенность гонений на веру и Церковь в «новой России» — их скрытый или наполовину скрытый характер, поскольку «людей никогда не убивают и не ссылают „за имя Христово“, а чаще всего под прикрытием мнимых политических преступлений». Вместе с тем автор указывал на опасения новой власти перед Церковью как социальным институтом, возможным центром народного сопротивления. Недоверие к Православной Церкви со стороны советского государства связано также «со старыми политическими связями между Церковью и старым монархическим государством». Эти важные обстоятельства, по мнению Федотова, определили «новую церковную политику почившего патриарха (свт. Тихона. — А. К. ), который желал отнять у врагов всякий повод — и действительное основание — для политической борьбы с Церковью, для политической мести» (Федотов, 1930а, 15).
Публицист особо подчеркивал, что спорным и трудным для понимания русской эмиграции является, собственно, не положение Церкви в атеистическом по своему характеру советском государстве, «но путь церковного водительства, политика ее иерархов». Речь идет об отходе высшего церковного руководства от бойкотирования советской религиозной политики, стремлении сохранить нейтралитет Церкви в кровавой междоусобице и переходе на позиции аполитичности и гражданской лояльности по отношению к советской власти. Окончательно и определенно такая позиция Русской Православной Церкви была высказана в патриаршем послании от 8 октября (25 сентября) 1919 г., в котором св. патр. Тихон призвал духовенство не подавать «никаких поводов, оправдывающих подозрительность советской власти», и подчиняться «ее велениям». Послание решительно запрещало духовенству «вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций». Такую позицию патриарх аргументировал «каноническими правилами Святой Церкви», согласно которым ее служители «по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов» (Акты святейшего Тихона, 1994, 164). Федотов высоко оценивал эту позицию и справедливо отмечал, что, отказываясь от сопротивления новому строю, патриарх «широко открывал двери Церкви для тех масс рабочих и крестьян, которые сначала увидели в Церкви классового врага». Успех этой политики заключался также в том, что в самый разгар обновленческого раскола она спасла церковную организацию от полного уничтожения, сохранила культ и таинства для народа и тем создала условия для возвращения в Церковь «отпавших своих детей» (Федотов, 1930а, 16).
Публицист подчеркивал, что аполитизм Церкви, отказ от теократических отношений к государству не был отказом от борьбы за душу народа, поскольку выдвигалась особая задача — «предстояло новое крещение Руси» (Федотов, 1930а, 16).
Следует отметить, что Федотов, считая отмеченную выше позицию патр. Тихона «оправданной Церковью, народом и историей», решительно осудил попытки «карло-вацкой иерархии за рубежом вернуть Церковь «на путь политических заговоров, сделать из нее орудие реставрации». «Те, кто выступают за такой путь, не только внешне, но и внутренне отрезают себя от Церкви и ее искупительного мученического опыта» (Федотов, 1930а, 17). Речь шла прежде всего о политических решениях Русского Все-зарубежного церковного Собора, состоявшегося в Сремских Карловцах (Югославия) в ноябре-декабре 1921 г. Так, в послании Собора «К чадам Русской Церкви в рассеянии и изгнании сущим» высказывалось пожелание о возвращении на российский престол царя из династии Романовых. Высшее русское церковное управление за границей, которое было образовано этим Собором и состояло из архиерейского Синода и Высшего Церковного Совета, претендовало на возглавление всего русского церковного зарубежья. Оно составило послание, адресованное Генуэзской конференции, направив его от имени уже закончившегося Карловацкого Собора. В послании содержался призыв не допускать на эту конференцию представителей Советского государства (см. об этом: [Кашеваров, 2008, 15, 16; Кострюков, 2007, 57–69]).
Примечательно, что еще до написания рассматриваемой статьи Г. П. Федотов поддержал состоявшееся в 1926 г. отделение от карловацкого Синода управлявшего русскими приходами в Западной Европе митр. Евлогия (Георгиевского), который не разделял идей правых политических деятелей, влиявших на первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митр. Антония (Храповицкого). Митрополит Евлогий также считал, что его прерогативы исходят не от зарубежного Синода, а от Московской Патриархии (см.: [Кашеваров, 2008, 17]). С 1926 г. по 1940 г. Федотов преподавал в Свято-Сергиевском Богословском институте, организованном в Париже весной 1925 г. трудами митр. Евлогия (см.: [Раев, 1994, 165]). На занятиях со студентами он нередко излагал наблюдения и выводы касательно положения Православной Церкви в советской России, которые затем развивал в своих статьях. Причина его конфликта с правлением этого института в 1939 г. заключалась в высказанных им в периодической печати оценках гражданской войны в Испании 1936–1939 гг., но никоим образом не была связана с оценкой и освещением положения Церкви в советской России (см. об этом: [Антощенко, 2014, 210–214; Галямичева, 2008, 131–133]).
Весьма подробно Г. П. Федотов проанализировал суть и итоги церковной политики заместителя патриаршего местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского). Первоначально ее смысл заключался в продолжении линии патр. Тихона, которая по отношению к советской власти, как уже отмечалось выше, сводилась к принципу лояльности. Федотов подчеркивал, что такое направление митр. Сергия получило одобрение огромного большинства верующих и, что особенно важно, — епископов Русской Церкви, оказавшихся в Соловецком лагере особого назначения. Заключенные епископы — к 1926 г. в Соловках уже находилось 29 православных иерархов — образовали самостоятельный церковный орган, известный в историографии под названием «Собор соловецких епископов». Он действовал с 1926 по 1929 гг. Хотя принятые им решения носили характер «частного мнения», но в разные годы в нем было представлено около сорока епархий. Особое место в деятельности этого Собора занимает «Памятная записка» соловецких епископов, составленная 7 июня 1926 г. в связи с тем, что власти потребовали от заместителя патриаршего местоблюстителя митр. Сергия в качестве условия регистрации Высшего церковного управления декларацию о признании Церковью справедливости революции, о своей лояльности по отношению к советской власти и ее деяниям. Эта записка явилась проектом официального обращения от лица Церкви к государственной власти и была призвана помочь митр. Сергию в составлении окончательного текста декларации (см. об этом: [Кашеваров, 2022, 90, 92–94]). Федотов особо подчеркивал, что позиции митр. Сергия и соловецких епископов в тот момент полностью совпадали в своих основных установках, касающихся государственно-церковных отношений, и, в частности, соответствовали провозглашенному патр. Тихоном принципу церковной аполитичности. При этом лояльность Церкви государству предусматривала невмешательство светских властей в церковную жизнь (Федотов, 1930б, 10).
Особое внимание Г. П. Федотов уделил оценке выпущенного 29 июля 1927 г. митр. Сергием совместно с членами разрешенного к тому времени властями Временного Священного Синода «послания к пастырям и пастве», т. н. «Декларации 1927 г.». По мнению публициста, «при некотором сходстве с актом патриарха Тихона этот документ, в сущности, сходит с пути аполитизма, на которую поставил Церковь патриарх, и выражает позицию внутренней духовной солидарности со светской властью. Лояльность, о которой говорит здесь митрополит, понимается им, по сути, как новый союз с властью, не прекратившей ни на минуту гонения на Церковь» (Федотов, 1930б, 11). Примечательно, что такая оценка Декларации со стороны публициста целиком совпадала с отзывом на нее в сентябре 1927 г. соловецких епископов, которые указывали, что «мысль о подчинении Церкви гражданским установлениям выражена в такой категорической и безоговорочной форме, которая легко может быть понята в смысле полного сплетения Церкви и государства» [Регельсон, 1977, 616; Шкаровский, 2010, 117]. Отметив, что далеко не все верующие одобрили этот курс заместителя патриаршего местоблюстителя, Федотов особо указывал, что «в благих намерениях митрополита Сергия никто не сомневался» (Федотов, 1930б, 11). Речь идет о стремлении митр. Сергия создать «на законных основаниях» церковно-административную структуру Патриархата — легализовать Св. Синод и епархиальные советы, зарегистрировав их в органах власти. Несмотря на эти явные, хотя и скромные достижения, при оценке в целом курса митр. Сергия «по результатам», Федотов пишет «о его неудаче» (Федотов, 1930б, 11), не учитывая, что компромиссная политика митрополита оставляла шанс хотя бы частично сохранить Церковь (см.: [Шкаровский, 2010, 117]).
При всей сложности объективной оценки событий в России из эмигрантского далека, Федотов верно определил, что с рубежа 1928–1929 гг. развертывается новый этап гонений на Церковь, который был связан с принятием советским руководством во главе с И. В. Сталиным курса на свертывание НЭПа, осуществление коллективизации в деревне и индустриализации в городе, обострение классовых отношений в обществе. «Гонение на веру, — писал Федотов в 1930 г., — в последний год свирепствует в наиболее чистом виде, обнажая гонителей и облегчая совесть исповедников. Массовое уничтожение храмов указывает, что власть не остановится перед уничтожением культа, ради сохранения которого митрополит Сергий принес такие жертвы. В такой трагической обстановке митрополит Сергий дает свои интервью, в которых отрицает наличность гонений в России» (Федотов, 1930б, 12).
Следует отметить, что ситуация с положением религии и Церкви в СССР в кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. беспокоила мировую общественность. Так, 2 февраля 1930 г. Римский папа Пий ХI призвал верующих мира к молитве о спасении Русской Церкви. Наиболее убедительно опровержение того, о чем писала зарубежная печать касательно гонений на религию в СССР, прозвучало бы из уст самих церковных иерархов. Поэтому выступление в печати митр. Сергия стало важным событием в этой контрпропагандистской акции. Интервью владыки и членов его Синода было напечатано в газетах «Правда» и «Известия» (Правда. 1930. 16 февраля; Известия. 1930. 16 февраля). 18 февраля 1930 г. митр. Сергий дал интервью уже иностранным журналистам. В опубликованном в газете «Известия» тексте этого интервью, вопреки очевидным фактам, митр. Сергий отрицал дискриминацию Церкви в СССР, а также преследования за веру (Известия. 1930. 19 февраля). Этот поступок рассматривался им в духе компромисса во имя нормализации отношений Церкви и государства. Однако указанные выше выступления митрополита в партийно-советской печати вызвали возмущение ряда религиозных деятелей за рубежом, а также церковной оппозиции внутри страны (см. об этом: [Косик, 2003, 266–277]).
На основе текстологического анализа интервью от 15 февраля 1930 г. московский исследователь И. А. Курляндский пришел к выводу, что «само интервью является фальсификацией, совершенной уполномоченными для этого особым постановлением Политбюро ЦК РКП(б) от 14 марта 1930 г. И. В. Сталиным, Е. М. Ярославским и В. М. Молотовым. Факт последующей авторизации интервью митрополитом Сергием и членами Синода оценку этого документа как фальсификации не меняет, поскольку эта авторизация была сделана под прямым давлением государственной власти. Кроме того, не обнаружено документов, свидетельствующих о том, что кто-либо из членов Синода, включая митрополита Сергия, участвовал в написании или редактировании текста интервью» [Курляндский, 2011, 444]. Подробности якобы имевшего место факта интервью появились лишь в эмигрантской печати — в сообщении рижской газеты «Сегодня», которое было перепечатано в белградском «Новом времени» (см.: [Косик, 2003, 267]). По мнению И. А. Курляндского, указанное эмигрантское издание подверглось намеренной дезинформации (см.: [Курляндский, 2011, 444]). Через несколько дней после публикации этого интервью в советской печати митр. Сергий был вынужден принять участие в пресс-конференции для иностранных журналистов, которая действительно состоялась 18 февраля 1930 г. (см.: [Курляндский, 2011, 455]). И. А. Курляндский так воспроизводит форму проведения этого интервью: «Вопросы были заранее присланы митрополиту Сергию в письменном виде. Владыка зачитал собравшимся, вероятно, не свой текст по бумажке — история его создания остается невыясненной — без ответов на дополнительные вопросы. И этим ограничивалось второе интервью» [Курляндский, 2011, 456].
Г. П. Федотов, пытаясь, насколько это возможно в условиях русского зарубежья, выяснить все обстоятельства этих интервью, частично воспроизвел сообщение, опубликованное в указанных выше эмигрантских изданиях. «Нам сообщили, — пояснял Георгий Петрович, — что митрополит Сергий подписал его (текст интервью для печати. — А. К. ), не читая. Он действовал в состоянии морального принуждения — в этом отличие нового шага от Декларации 1927 г. Это акт не мудрости, не расчета, а отчаяния. Мы не знаем, каковы были угрозы, пред которыми склонился митрополит. Судя по письмам из России, враги угрожали арестом епископов. Для предотвращения этой или иной неведомой опасности митрополит Сергий 1) допустил ложь, отрицая наличие гонений в России; 2) допустил клевету на инославных христиан, в лице епископов римского и кентерберийского, выступивших с осуждением гонений; 3) допустил клевету на мучеников, проливающих свою кровь за Христа, утверждая, что все они караются за политические преступления» (Федотов, 1930б, 12–13). Упрекая митр. Сергия в том, что его политика в сфере государственноцерковных отношений в кон. 1920-х гг. создала традицию лжи и привела к развалу Церкви, к утрате «внешнего, видимого ее центра» и превращению, по сути, в ряд «сосуществующих православных общин» (Федотов, 1930б, 13), Г. П. Федотов делает весьма примечательную оговорку, которая, впрочем, не объясняет и даже, в известной степени, противоречит весьма суровому приговору, высказанному публицистом по отношению к руководству Патриаршей Церкви: «Мы, русские за рубежом, по отношению к Православной Церкви в России находимся в особом положении, — признавал Федотов, — не причастны к ее страданиям, не разделяем ее кровавых испытаний, ужасов ее повседневного существования. Поэтому нам не пристало становиться в позу обличителей, кто знает, как каждый из нас держался бы под угрозой смерти?» (Федотов, 1930б, 14). В связи с этим Федотов подчеркивал, что единство с Русской Церковью является самым первым и важным условием жизни верующих в эмиграции, поэтому «ни при каких условиях мы не можем добровольно порвать эту связь с русской матерью-Церковью. Мы должны терпеливо ждать, пока Русская Церковь сама устроит свою жизнь» (Федотов, 1930б, 14).
Следует особо подчеркнуть, что, вопреки мнению Федотова, Московской Патриархии в нач. 1930-х все-таки удалось сохранить легальные структуры управления — епархиальные советы и Временный Патриарший Синод, действовавший вплоть до мая 1935 г. (см.: [Цыпин, 1997, 211]). Кроме того, на следующий день после данного митр. Сергием иностранным корреспондентам интервью, которое было весьма отрицательно оценено Федотовым, митрополит направил председателю постоянной комиссии ВЦИК по вопросам культов П. Г. Смидовичу памятную записку о нуждах Православной Церкви в СССР. Она состояла из 21 пункта и содержала конкретные просьбы по нормализации церковной жизни, положения духовенства и приходских общин (см. подр.: [Васильева, 2002, 399–402]). В итоге этого обращения митр. Сергий получил разрешение властей на издание «Журнала Московской Патриархии», который выходил с 1931 по 1935 г. (см.: [Кашеваров, 2004, 64]). Анализ опубликованных в «Журнале Московской Патриархии» материалов показывает, что вопреки всем притеснениям церковная жизнь продолжалась и Патриархия в лице заместителя патриаршего местоблюстителя митр. Сергия и членов Временного при нем Патриаршего Священного Синода, оставаясь единственно легализованным органом церковного управления, делала все возможное в тех невероятно трудных условиях, чтобы поддерживать на канонических основах некоторый порядок и дисциплину в Церкви и не дать ей распасться (см.: [Кашеваров, 2004, 62–76]).
В статье с примечательным названием «Проблемы будущей России» Федотов пытался раскрыть потенциал, возможности государственно-церковных отношений, исходя из того, что «православие уже доказало, вопреки 1600-летней традиции, свою способность примиряться со всеми формами власти, а с другой стороны, всякая дорожащая национальной культурой власть не может отталкивать от себя Церковь — в России хранительницу самых чистых и глубоких традиций», государство имеет возможность, не изменяя своей религиозной нейтральности, оказывать Церкви серьезную поддержку путем обеспечения религиозного (факультативного) преподавания в школе — для всех исповеданий, — путем материальных затрат на содержание храмов, признанных исторической и художественной ценностью, без профанирующего обращения их в музеи (см.: (Федотов, 1931, 393–394)). Эти надежды и призывы историка и публициста русского православного зарубежья оказались весьма актуальными для постсоветской России.
В заключение важно подчеркнуть, что, несмотря на переживаемые Церковью в 1920-е — нач. 1930-х гг. гонения и утраты, Г. П. Федотов продолжал видеть в ней силу, призванную преобразовать русскую социальную и культурную жизнь, способную также делиться с Западом сокровищами православной духовности, и верил в выполнимость этой задачи в условиях свободы творческих сил человека.
Список литературы Размышления Г. П. Федотова о положении и перспективах православной церкви в послереволюционной России
- Акты Святейшего Тихона (1994) — Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского богословского института, 1994. 1063 с.
- Вишняк (1957) — Вишняк М. В. «Современные записки». Воспоминания редактора. Indiana, 1957. 245 с.
- Известия — Известия. 1930. 16 февраля; 19 февраля.
- Правда — Правда. 1930. 16 февраля.
- Федотов (1930а) — Федотов Г. П. К вопросу о положении Русской Церкви // Вестник РСХД. Париж, 1930. № 10. С. 13–17.
- Федотов (1930б) — Федотов Г. П. К вопросу о положении Русской Церкви // Вестник РСХД. Париж, 1930. № 11. С. 10–14.
- Федотов (1930в) — Федотов Г. П. Новая Россия // Современные записки. 1930. № 41. С. 276–311.
- Федотов (1931) — Федотов Г. П. Проблемы будущей России // Современные записки. 1931. № 46. С. 378–395.
- Антощенко (2014) — Антощенко А. В. Конфликт между Г. П. Федотовым и правлением Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже (1939) // Вестник РХГА. 2014. Т. 15. Вып. 1. С. 210–214.
- Бойков (1991) — Бойков В. Философско-историческая публицистика Г. П. Федотова // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб.: София, 1991. Т. 1. С. 3–38.
- Васильева (2002) — Васильева О. Ю. Февральская пресс-конференция Митрополита Сергия — историческое осмысление и историческое наследие // История Русской Церкви в ХХ веке (1917–1933). Материалы конференции г. Сэетендре (Венгрия) 13–16 ноября 2001 г. Мюнхен: Изд. обители Иова Почаевского, 2002. С. 384–405.
- Галямичева (2008) — Галямичева А. А. Свобода слова в русской эмиграции. Конфликт профессора Г. П. Федотова с правлением Православного богословского института в Париже // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2008. № 5 (24). С. 131–133.
- Жирков (2003) — Жирков Г. В. Журналистика русского зарубежья ХIХ–ХХ веков. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 320 c.
- Зернов (1974) — Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ века. Париж: ИМКА-Пресс, 1974. 382 с.
- Кашеваров (2008) — Кашеваров А. Н. Печать Русской Зарубежной Церкви. СПб.: СПбГУ — Роза мира, 2008. 256 с.
- Кашеваров (2004) — Кашеваров А. Н. Печать Русской Православной Церкви в ХХ веке. СПб.: СПбГУ — Роза мира, 2004. 162 с.
- Кашеваров (2022) — Кашеваров А. Н. «Памятная записка» соловецких епископов 7 июня 1926 г., обращенная к правительству СССР // Арктика: история и современность. Сборник трудов Международной научной конференции 20–21 октября 2022 года. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022. С. 86–95.
- Косик (2003) — Косик О. В. Интервью митрополита Сергия (Страгородского) 15 февраля 1930 г. в восприятии современников // ХIII Ежегодная Богословская конференция право-славного Свято-Тихоновского института. Материалы. М.: ПСТГУ, 2003. С. 266–277.
- Кострюков (2007) — Кострюков А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920‑х годов. Организация церковного управления в эмиграции. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. 398 с.
- Курляндский (2011) — Курляндский И. А. Сталин, власть, религия (религиозный и церковный факторы во внутренней политике советского государства в 1922–1953 гг.). М.: Кучково поле, 2011. 720 с.
- Раев (1994) — Раев М. История культуры русской эмиграции 1919–1939. М.: Прогресс-Академия, 1994. 290 с.
- Регельсон (1977) — Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917–1945. Париж: ИМКА-Пресс, 1977. 625 с.
- Цыпин (1997) — Цыпин В., прот. История русской Церкви. 1917–1997. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского м-ря, 1997. 832 с.
- Шкаровский (2010) — Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Лепта, 2010. 480 с.