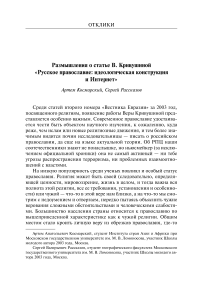Размышления о статье В. Кривушиной «Русское православие: идеологическая конструкция и Интернет»
Автор: Космарский Артем Анатольевич, Рассказов Сергей Валерьевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Отклики
Статья в выпуске: 2, 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911877
IDR: 14911877
Текст статьи Размышления о статье В. Кривушиной «Русское православие: идеологическая конструкция и Интернет»
Среди статей второго номера «Вестника Евразии» за 2003 год, посвященного религиям, появление работы Веры Кривушиной представляется особенно важным. Современное православие удостаивается чести быть объектом научного изучения, к сожалению, куда реже, чем ислам или новые религиозные движения, и тем более значимым видится почин исследовательницы — писать о российском православии, да еще на языке актуальной теории. Об РПЦ наши соотечественники знают не понаслышке, но ньюсмейкер (за исключением официальной хроники) она не самый активный — ни тебе угрозы распространения терроризма, ни проблемных взаимоотношений с властями.
На низкую популярность среди ученых повлиял и особый статус православия. Религия может быть своей (следовательно, определяющей ценности, мировоззрение, жизнь в целом, и тогда важна вся полнота этой религии, все ее требования, установления и особенности) или чужой — что-то в этой вере нам близко, ана что-то мы смотрим с недоумением и отвергаем, нередко пытаясь объяснить чужие верования сложными обстоятельствами и человеческими слабостями. Большинство населения страны относится к православию по вышеприведенной характеристике как к чужой религии. Общим местом стало кроить личную веру из обрезков православия, где-то
Артем Анатольевич Космарский, студент Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, участник Школы молодого автора 2003 года, Москва.
Сергей Валерьевич Рассказов, студент географического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, участник Школы молодого автора 2003 года, Москва.
домысливая, где-то заимствуя из других религий, и относиться к «церковному православию» индифферентно или с неприязнью. С другой стороны, у православия нет статуса чужой религии. Как отметила В. Кривушина, ссылаясь на исследования К. Каариайнена и Д. Фурмана, 82% их респондентов-русских считают себя православными. Вот и получается: чужим православие быть не может, но по сути — чужое; религия редуцируется до «культурного балласта», набора стереотипов.
Итак, автор статьи «Русское православие: идеологическая конструкция и Интернет» исследует религиозно-националистический антиглобалистский дискурс на примере публицистики с сайта pravo-slavie.ru. В чем безусловные плюсы рассматриваемой работы? Проводится обстоятельная инвентаризация мифологических конструктов, распространенных в определенных слоях православной общественности, — эти группы именуются то «фундаменталистской партией», то «патриотическим крылом». Другое достоинство — взгляд на вышеупомянутые идеи и позиции как на цельную идеологию. Действительно, одна из основных проблем религии в условиях современной европейской культуры — подмена веры идеологией, многогранного и многослойного мировоззрения — упрощенными символикорационалистическими схемами.
Таким образом, поднята актуальная проблема, дано первичное описание материала, использована свежая методика. Но некоторые положения статьи вызвали у нас недоумение. В самом начале автор пишет, что главным противником православия является либеральная идеология 1. Это утверждение предшествует собственно анализу дискурса и подается как аксиоматическое. Таково, возможно, личное мнение автора статьи (или ее героев с сайта pravoslavie.ru), но, чтобы оно стало обоснованной исследовательской позицией, его необходимо подкрепить данными социологически фундированных «замеров» настроений православного клира и мира 2, или же анализом более представительного корпуса официальных документов и богословских трудов. В противном случае всякий православный, видящий смысл своей духовной жизни не в борьбе с либеральной идеологией, вправе возмутиться и усомниться в выводах автора статьи, как основанных на неверной посылке. Православие (понимаемое как вера, традиция и церковь) и либерализм (как политическая и социальная идеология, не оформленная институционально) — все-таки понятия разного порядка. Скорее можно говорить о борьбе
«консервативных» и «либеральных» тенденций внутри самого православия 3.
В начале статьи автор заявляет о своем желании «размышлять о современном православии как социолог, РПЦ рассматривать как социальный институт» (с. 108), — что в дальнейшем изложении развития не получает (институциональные проблемы не попадают в поле зрения автора). На следующей странице фокус резко сужается: предметом исследования оказывается не РПЦ в целом или ее прихожане, или ее вероучительная позиция, а «православный религиознонационалистический антиглобалистский дискурс» (с. 109). Такое определение соответствует анализируемым материалам, но автор явно и неявно подчеркивает, что работает отнюдь не с маргинальными по отношению к официальной церковной позиции текстами (с. 111, абзац первый; см. также «Церковь... развивает религиознонационалистический дискурс» — из аннотации к статье, с. 107; «Писать об официальном православии сложно» — с. 108).
Тут уже возникают вопросы, прежде всего о репрезентативности сайта вообще. Автор честно приводит критическое мнение специалиста Николая Митрохина, что pravoslavie.ru поддерживается «людьми, считающими себя членами РПЦ, [которые] занимаются обсуждением в Интернете ее проблем и делают это вне очевидного контроля со стороны официальных структур церкви» (с. 111). Тем не менее Вере Кривушиной «кажется», будто ставропигиальность (управление Сретенского монастыря патриархом) обуславливает адекватность текстов сайта pravoslavie.ru позиции РПЦ (c. 111). Во-первых, стоило бы сослаться на авторитетный источник, который бы утверждал, что контроль за положением дел в монастыре патриархом предполагает редактирование его сайта. Во-вторых, основное назначение монастырей — устроение духовной жизни своих насельников, а не поддержание сайта, эта задача явно периферийная. И в-третьих, авторы процитированных статей с pravoslavie.ru, как видно по ссылкам, — миряне, есть среди них и женщины. Так что авторы сайта мужского Сретенского монастыря могут иметь к обители весьма слабое отношение, скорее всего это просто приглашенные со стороны люди.
Наконец, так ли действительно страшен сайт pravoslavie.ru, как его малюют? Проверку многих авторских утверждений осуществить затруднительно. Хотя источниками служат сетевые материалы, ссылки даются либо на статьи, но без указания точного адреса и даты публикации, либо на сайт в целом: пойди найди, где именно что лежит. Мы узнаем, что «особый интерес» для автора представляют именно полемические материалы, которые составляют не самую большую часть материалов сайта, но интерес этот не обосновывается автором. Автором же указано, что на сайте публикуют материалы о внутренней жизни РПЦ, однако их анализ отсутствует. Насколько разбираемые статьи репрезентативны, остается только гадать — о критериях отбора (тематическом? временном?) не сообщается. А критерии для нас особенно значимы. «Первое время он (сайт pravo-slavie.ru. — А. К., С. Р.) вызывал настороженную реакцию пользователей из-за своих ура-патриотических и алармистских публикаций в стилистике “Русского дома”. Однако в феврале 2001 года авторы сайта поддержали официальную позицию Синодальной богословской комиссии по вопросу ИНН и стали публиковать гораздо более взвешенные и качественные материалы по остальным вопросам» 4.
Серьезные сомнения вызывает раздел «Борьба за точки пристежки: православие versus либерализм», каталогизирующий «православные» интерпретации личности, закона, равенства, свободы, разума, демократии, солидарности, счастья, правды, истины, любви, здоровья, — изобилующий безапелляционными оборотами «православие учит... приписывает... утверждает». Надо иметь большую смелость, чтобы говорить от лица всего православия, но, если бы после каждой подобной конструкции стояла «точка. ру» и ссылка на конкретную статью, все было бы нормально. Иначе непонятно: авторское понимание ортодоксии почерпнуто с анализируемого сайта или откуда-то еще? 5
Можно вспомнить о сложнейших и тяжелейших спорах, через которые прошло христианство, например, спорах о природе Христа. Много было точек зрения, и каждая сторона заявляла: «православие учит...». Доказательству ортодоксальной богословской позиции святые отдавали всю свою жизнь, но не все они оказывались правы; собирались соборы, которые определяли православную позицию по куда более узкому спектру вопросов, чем это проделано автором. Мало того, засвидетельствовав слова некоторого святого или собора как истину о православии, люди через несколько поколений начинали выяснять, как именно понимать эти слова, если их рассмотреть в ином смысле. С тех давних пор берет начало добродетель конкретных ссылок: святой такой-то по этому вопросу говорил так-то, в то время как его современник святой такой-то с ним не соглашался... такой-то собор по вопросу... учил о том-то, это следует понимать как...
Мы далеки от того, чтобы винить в вышеописанных нестыковках лично Кривушину, но видим в ее статье отражение важной тенденции отечественной религиозной жизни: в значительной степени секуляризованная (пост)советская интеллигенция пытается понять, что такое православие и с чем его едят. Из-за инерции прошлого опыта или тоски по авторитету каждое слово батюшки, сказанное по любому поводу, воспринимается неофитом как догмат, а ненависть к Западу представляется отдельными публицистами как необходимое и достаточное условие «православности». Увы, перетолкование полноты церковной Истины в тотальную идеологию, скроенную по лекалам марксизма-ленинизма, — видимо, неизбежный этап аккультурации ортодоксальной веры в нашем отечестве. Читателю, наверное, будет небезынтересно узнать, что с полной уверенностью утверждать «православие учит...» возможно лишь применительно к положениям Никео-Константинопольского символа веры, определениям двух Апостольских, семи Вселенских и ряда наиболее значимых поместных соборов (например, Антиохийского 341 года, Константинопольских 1341, 1347 и 1351 годов.), а также к вопросам, относительно которых согласны все отцы Церкви ( consensus patrum ). На одну ступень ниже по авторитетности лежат так называемые тео-логумены (богословские мнения, кем-то из Отцов или святых поддержанные, а кем-то — оспоренные) и определения поместных соборов (например, Юбилейного собора РПЦ 2000 года). Внизу спектра находятся частные богословские мнения (именно их выражают разбираемые Кривушиной статьи): верующий может свободно соглашаться или не соглашаться с ними, оставаясь в рамках ортодоксии. Львиная доля вопросов, представленных в статье (о Западе, о «Святой Руси», об отношении к евреям, католикам и либерализму), не имеет отношения к традиции православного богословия, отсутствует в вероучении Церкви и остается на совести лишь своих авторов.
С одной стороны, автор добросовестно деконструирует отобранную им идеологию, активно действующую в настоящий момент на медийном поле российского православия. С другой стороны, Кри-вушина выступила невольным союзником лишь одной из сил, представив ее позицию синонимичной православию как таковому. Исследовательница не столько анализирует идеологические построения внутри исследуемого дискурса, сколько переводит их на свой (жижековский) метаязык и, заявив фундаментальную оппозицию «православие versus либерализм», вынуждена следовать ее жесткой бинарной логике, и тогда, по словам Хайдеггера, представление о сути дела начинает располагать такой механикой понятий, которой ничто уже не в силах противостоять. Между тем черно-белое видение мира, деление его на «падшую» и «чистую, но соблазняемую» половины характерно скорее для гностицизма, чем для православного сознания 6.
Итак, исследовательницей выстраивается цепочка тождеств: отобранные тексты с pravoslavie.ru = весь сайт = Сретенский мужской монастырь = официальная позиция РПЦ = православие вообще. Многие звенья этой цепочки оказываются, как мы попытались показать, достаточно хрупкими. Впрочем, логика pars pro toto , выдающая изолированный фрагмент поведения или мышления, отдельный институт за культуру в целом, присущая классической этнографии, в последние годы была подвергнута критическому переосмыслению 7.
Несмотря на сказанное, мы убеждены, что разбираемая статья в «Вестнике Евразии» — крайне значимый феномен в отечественной гуманитарной науке. Попытаемся дать некоторые объяснения этому феномену, не забывая о процитированной Кривушиной мысли К. Мангейма: «...после обнаружения бессознательных мотивов поведения уже невозможно жить так, как мы жили раньше» (с. 109).
На примере статьи видно, как Университет (читай: секулярное вестернизированное научное сообщество) присматривается к Церкви (как самостоятельному, непростому и, в современной России, безусловно значительному феномену); ищет пути описания ее деятельности на своем языке; пытается вписать в контекст современной (социологической, культурологической ит. п.) теории. Сам этот интерес достоин всяческой поддержки, ибо может свидетельствовать о преодолении глубокого отчуждения интеллигенции от Церкви и о воле к обретению общего языка. Замечательно наблюдать это осторожное прощупывание: представление избранных образцов экзотического, пронизанного потоками власти, желания, репрессии и т. п. дискурса на суд просвещенной публики; «приручение дикаря» знакомыми/знаковыми именами, облегчающими опасное путешествие по катакомбам (Фуко, Тённис, Мангейм, «французский социолог Франсуа Дюбе»); изобилие кавычек — словно пинцетом аккуратно захватываются «Дары Святого Духа», «нация», «свобода», «Царство Божие». Интересно, что в конструкциях В. Кривушиной православие часто выглядит таким же экзотическим, извращенным и опасным, как (либеральный) Запад для публицистов с pravoslavie.ru.
И снова зададимся вопросом: почему для представления православия в Интернете был выбран исключительно сайт pravoslavie.ru и только публицистические полемические статьи с него? Не действует ли здесь логика той же западной антропологии? «Те статьи, в которых другие народы могут показаться неэкзотичными и похожими на нас, не публикуются и не читаются... В результате мы не только нацеливаем себя на то, чтобы отбирать наиболее экзотичные из возможных данных, но и даем им наиболее экзотичное из возможных прочтений» 8.
Что касается индивидуальной стратегии автора в рамках «научной экономики», то на передний план выходит задача максимализации прибыли (символического капитала) при минимизации затрат. Описываются самые сочные, яркие, радикальные, соблазнительные явления, извлекаемые из наиболее доступных источников (Рунет), работа с которыми не требует ни овладения нелегким для усвоения «с ходу» богословским языком, ни погружения в поле (например, через интервью или case studies отдельных приходов или групп верующих). А затем добытые артефакты, щедро политые соусом модных теорий9, подаются на стол.
* **
Мы надеемся, что современное российское православие утвердится в роли легитимного объекта научных исследований и от верхних, легкодоступных слоев медиа и публичных текстов ученые перейдут к глубинным замерам и опишут все многообразие стилей, форм и практик, составляющих этот сложный феномен. Хорошо бы, входя в поле, не хвататься за самое блестящее, бросающееся в глаза и шибающее в нос (и, тем самым, включаться в игру в качестве рупора одной из сторон), а постараться получить по возможности полную картину всех диспозиций и, представляя объект исследования, не лишать голоса остальные группы. Также, наверное, будет неразумно абсолютизировать различие между внешней «объективной» и «заинтересованной» позициями (с. 108). «Но, замыкаясь в альтернативе... взгляда понимающего, даже соучаствующего и взгляда редуцирующего, упускают, что воинствующее неверие может оказаться только инверсией веры, а главное, что возможно участвующее наблюдение, которое предполагает объективацию участия и то, что она в себя включает, т. е. сознательное покорение интересов, связанных с принадлежностью или не-принадлежностью» 10.
Список литературы Размышления о статье В. Кривушиной «Русское православие: идеологическая конструкция и Интернет»
- Кривушина В. Русское православие: идеологическая конструкция и Интернет//Вестник Евразии, 2003. № 2 (21). С. 113. В дальнейшем ссылки на эту статью даются в самом тексте с указанием страницы при цитировании.
- www.kuraev.ru/forum
- www.forum. christianity.org.ru
- Кыржелев А. Либеральные тенденции в русском православии: к постановке проблемы // Неприкосновенный запас, 2003. № 6 (32) // www.magazines.russ.ru/nz/2003/6/kyr.htmL
- Лученко К. Интернет по-православному//www.russ.ru/netcult/20031216_luchen-ko.html, 2003, 16 декабря
- www.mospat.ru.chapters/conception
- Безансон А. Интеллектуальные истоки ленинизма. М., 1998. С. 14-25, 211-219.
- Clifford J. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethno graphy, Literature and Art. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1988. P. 38
- Keesing R. M. Exotic Readings of Culture Texts//Current Anthropology, 1989. Vol. 80, № 4. P. 459
- Лурье С. В. Историческая этнология. М., 1998. С. 102.
- Люсый А. Основная травма. Рец. на: Жижек С. Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие. М., 2003. Русский Журнал//www.russ.ru/krug/kniga/20030915_al.html, 2003, 15 сентября
- Бурдъё П. Социология веры и верования социологов//Бурдъё П. Начала. М., 1994. С. 137.