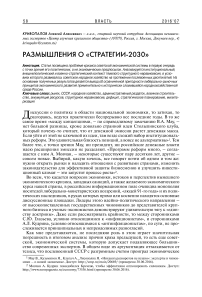Размышления о «Стратегии-2030»
Автор: Кривопалов Алексей Алексеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Государственная политика
Статья в выпуске: 7, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме кризиса советской экономической системы в первую очередь с точки зрения его политических, а не экономических предпосылок. Анализируется институциональный, внешнеполитический и военно-стратегический контекст тяжелого структурного неравновесия, в условиях которого развивалось советское народное хозяйство на протяжении послевоенных десятилетий. На основании полученных результатов делается вывод об ограниченной пригодности либерально-рыночных принципов экономического развития применительно к исторически сложившейся народнохозяйственной среде России.
Рынок, ссср, народное хозяйство, административный раздаток, военное строительство, аккумуляция ресурсов, структурное неравновесие, дефицит, стратегическое планирование, милитаризация
Короткий адрес: https://sciup.org/170168487
IDR: 170168487
Текст научной статьи Размышления о «Стратегии-2030»
Д искуссии о политике в области национальной экономики, то затихая, то разгораясь, ведутся практически беспрерывно все последние годы. В то же самое время «между концепциями, – по справедливому замечанию В.А. Мау, – нет большой разницы, кроме довольно странной идеи Столыпинского клуба, который почему-то считает, что от денежной эмиссии растет денежная масса. Если уйти от этой не ключевой их идеи, там везде схожий набор институциональных реформ. Это удивительная близость позиций, а вовсе не альтернативы»1. Тем более что, с точки зрения Мау, ни президент, ни российские денежные власти идею расширения эмиссии не разделяют. «Программ реформ много, – соглашается с ним А. Мовчан, – некоторые существуют пару десятков лет, другие – совсем новые. Выбирай, какую хочешь, все говорят почти об одном и том же: нужно открыть рынки и наладить отношения с развитыми странами, изменить законодательство для эффективной защиты бизнесменов и улучшить инвестиционный климат – это запустит процесс роста»2.
Во всем, что касается вопросов экономики, истоков и перспектив нынешнего экономического кризиса, западных санкций, а также желаемого экономического курса нашей страны, в российском информационном поле очевидна монополия носителей либерально-монетаристских воззрений, «людей 91-го года» и их политических наследников, в руках которых прямо или косвенно находятся основные дискуссионные площадки. Лидеры этого идейно-политического направления – от высокопоставленных государственных чиновников до представителей крупного бизнеса и ученых-экономистов демонстрируют удивительную тягу к «единству доктрины». Даже если рассматривать крайности, то между сторонниками С.Ю. Глазьева, условно относящимися к «инфляционистам», и сторонниками А.Л. Кудрина, условно относящимися к «антиифляционистам», по сути, не прослеживается принципиальных и непреодолимых разногласий.
Как мне представляется, не последнюю роль в этом играет значительная погрешность в итоговом анализе причин краха предыдущей, то есть еще советской, экономической системы, которую допускает подавляющее большинство современных экспертов. В общем виде их аргументация отталкивается от тезиса, что послевоенный СССР с разгромным счетом проиграл экономическое соревнование с Западом. Оспорить его по существу, естественно, невозможно, однако ряд причинно-следственных связей и важных нюансов все же вызывают вопросы.
События 1917 г. трактуются либералами как аномалия и разрыв с естественным ходом политической и экономической эволюции старой России, развитие которой, пусть и с опозданием, повторяло общий ход развития западноевропейской цивилизации. Большевистский эксперимент выбил Россию из магистральной исторической колеи и противопоставил ее Западу. Сворачивание советского эксперимента в 1985–1991 гг. в подобном контексте преподносится как возвращение России на столбовую дорогу европейского развития.
Тем не менее искусственность, неестественность и аномалия так называемого советского проекта сильно преувеличена хотя бы потому, что советская империя практически в полном объеме унаследовала как те военно-стратегические вызовы, с которыми до нее безуспешно пыталась справиться имперская Россия, рухнувшая в разгар Первой мировой войны в результате перенапряжения и фатальной слабости перед лицом Германии, так и те методы изыскания направляемых на решение насущных военно-стратегических задач ресурсов, которые она использовала. В исторической ретроспективе эти методы оказываются крайне слабо связанными как с законами рыночной экономики, так и с классическим западным капитализмом.
Утомительные и эмоционально нагруженные рассуждения об исторических судьбах России, о ее европейской или неевропейской природе многим успели наскучить. Однако тот факт, что генезис отношений между обществом и государством имел в нашей стране характер, отличный от западноевропейского, отрицать, пожалуй, невозможно. Еще В.О. Ключевский обратил внимание на то, что на Западе государство, по сути, являлось простой надстройкой над гражданским обществом, тогда как в России исторически именно государство создавало и общество, и экономику [Ключевский 1959а: 307; Ключевский 1959б: 70-71; Ключевский 1989: 243].
Средневековый Запад развивался в прямом смысле слова на руинах Римской империи, имея перед глазами множество сохранившихся образцов ее высокой материальной и духовной культуры. Россия же возникла на первобытных пространствах, лежащих за тысячи километров к северо-востоку от бывших границ римской цивилизации. Бедность и хозяйственная слабость стали ее родовыми проклятиями. «Печать этой бедности, - отмечал современник русской революции, -лежала на всех учреждениях страны: на ее чиновниках, военных, администрации и всей вообще государственной жизни. Бедность была одной из причин того, что в России многое было второсортным, недоделанным и потому отсталым» [Раупах 2007: 28]. Многовековое существование в режиме единого военного лагеря, борьба с экспансией более сильных соседей, а затем и собственная экспансия России в условиях многовековой потребности поддерживать военные усилия, далеко выходящие за рамки естественных экономических возможностей страны, отразились практически на всех аспектах русской жизни и в первую очередь – на совершенно особой роли государства. Поскольку в огромной редконаселенной стране с примитивными коммуникациями и к тому же удаленной от основных очагов мировой торговли потери при обмене традиционно превышали прибыль, Российское государство на протяжении многих веков было вынуждено изыскивать альтернативные способы аккумуляции ресурсов на нерыночной основе. Фундаментальные исследования народного хозяйства дореволюционной России достаточно четко подмечали эту его особенность [Блиох 1882; Мигулин 1899-1901].
Современный социолог и экономист О.Э. Бессонова в цикле своих работ доказывает, что сущность экономических отношений в России выражается в механизмах «сдач-раздач», в отличие от механизмов «купли-продажи», и поэтому экономику России можно охарактеризовать как раздаточную [Бессонова 2006: 5-6].
В плане способов, с помощью которых достигалась аккумуляция ресурсов, необходимых для решения стоящих перед страной внешнеполитических и военностратегических задач, советская власть представляется сегодня куда менее радикальным разрывом с предшествующей традицией, чем это может показаться на первый взгляд. Принципиальным оставалось лишь различие в предельно допустимом при этом уровне государственного насилия, которое в сталинском СССР применялось гораздо шире и охотнее, чем в империи Романовых [Колеров 2012]. В сущности, начиная со второй половины 1920-х гг., после окончательного краха иллюзий относительно грядущего наступления мировой революции Советский Союз фактически создавался как второе, «расширенное и дополненное» издание Российской империи.
Первая мировая война, погубившая имперскую Россию, заслуженно считается первой тотальной войной в истории человечества. Первой войной, в которой беспрецедентная социальная, экономическая, политическая и моральноидеологическая консолидация позволила передовым державам Запада ради достижения победы и национального выживания сначала мобилизовать, а потом без колебаний бросить на чашу весов практически весь свой демографический и хозяйственный потенциал. Но тотальная война XX в. оказалась непосильной для социально и экономически более рыхлой Российской империи. Осуществленное при Сталине строительство самостоятельной военно-индустриальной и сырьевой базы, создание промышленности, обладавшей замкнутыми производственными циклами, позволило советской России не проиграть Вторую мировую войну подобно тому, как имперская Россия проиграла Первую.
Принято считать, что в период относительного мира, наступившего после 1945 г., забюрократизированная и неповоротливая советская командноадминистративная система, привыкшая делать пушки вместо масла, пусть и с большим трудом, могла обеспечивать военно-технический паритет с Соединенными Штатами и их союзниками, однако достигалось это за счет низкого уровня жизни простых граждан, постоянного дефицита, низкого качества основной массы товаров широкого потребления, очередей и продуктовых талонов. В 1970-е гг. традиционная слабость легкой и пищевой промышленности СССР стала еще более очевидной на фоне достижений очередного витка происходившей на Западе научно-технической революции. Отсталость советской радиоэлектроники и компьютерной техники, особенно в гражданском сегменте, стала практически легендарной. Известный анекдот про «советские микросхемы – самые большие микросхемы в мире» достаточно точно отражал умонастроения людей эпохи застоя.
С целью насыщения убогого потребительского пространства советское правительство уже с начала 1960-х гг. было вынуждено прибегнуть к массовым закупкам за границей продовольствия и ширпотреба. В первой половине 1980-х гг. падение мировых цен на нефть стало катастрофой для советской экономики. СССР не пережил сокращения притока валюты, с помощью которой обеспечивались эти закупки. В отчаянном стремлении исправить положение М.С. Горбачев во второй половине 1980-х гг. предпринял ряд непоследовательных и плохо продуманных экономических, а затем и политических реформ. Однако вместо того, чтобы демократизировать общество и оздоровить неэффективную сильно милитаризированную экономику, реформы лишь расшатали советскую партийнополитическую систему, в результате чего произошел распад огромного государства.
Причины постигшей Советский Союз катастрофы, таким образом, выводятся из ее экономических предпосылок. Именно этот момент выглядит наиболее уязвимым местом в «либеральной версии» краха СССР, поскольку в мобилизационной социалистической экономике, которая изначально создавалась с целью подготовки отсталой аграрной страны к войне с первоклассными индустриальными государствами, кризис являлся естественной формой и перманентным условием ее существования. И в этом смысле советская плановая экономика с первого до последнего дня пребывала в состоянии кризиса.
Как минимум с конца 1920-х гг. она развивалась в условиях тяжелого структурного неравновесия, которое стало следствием опережающей концентрации всех лучших технологических, сырьевых и кадровых ресурсов в военнопромышленном комплексе. Но за все приходится платить, поэтому систематическая концентрация высококачественных ресурсов в оборонном секторе оборачивалась стремительной технологической деградацией гражданских секторов народного хозяйства.
Вопреки расхожему мнению, нефтяные цены играли в стабилизации советской экономики далеко не самую значительную роль, и гораздо опаснее снижения мировых цен на нефть было исчерпание первичных ресурсов, в первую очередь дешевой рабочей силы из села, обеспечивавших компенсационные эффекты внутри советского народного хозяйства [Яременко 1998: 44].
Недопонимание советскими вождями и российскими либералами особенностей раздаточной экономики, которая так и не выработала собственного научного языка, особенно ярко проявилось на примере сельского хозяйства. Как известно, в годы коллективизации Сталин фактически разменял избыточное аграрное население на военно-индустриальную модернизацию. Деревня стала для строек коммунизма источником практически бесплатных рудовых ресурсов. На полную мощность заработали социальные лифты, чему немало способствовала и эгалитарная политика советской власти. Сельская молодежь массово хлынула в города, создавая столь необходимую СССР современную промышленность и стремительно меняя демографическую структуру общества. Однако в послевоенные десятилетия, по мере того как СССР превращался в современную индустриальную и урбанизированную страну, избыточное аграрное население, бывшее все это время истинным мотором советского экономического роста, начало иссякать. К 1970-м гг. нищая и обезлюдевшая советская деревня сама нуждалась в экстренной помощи, и государство демонстрировало свою готовность поддержать село. Доля капиталовложений в сельское хозяйство в 1950–1980-х гг. постоянно повышалась. В 1966–1980 гг. туда было направлено 383 млрд руб., что составило 78% капиталовложений в сельское хозяйство за все годы советской власти1. Но огромные денежные вливания не давали положительных результатов, в результате чего дефицит продовольствия все более обострялся.
Е.Т. Гайдар в известной книге «Гибель империи» объяснял это тем, что деградация социальной структуры села обусловила низкую результативность направляемых туда капитальных вложений [Гайдар 2006: 91]. Кризис же советского сельского хозяйства он вообще считал непреодолимым в рамках социалистической модели управления экономикой [Гайдар 2006: 99]. Однако роспуск колхозов и переход к рынку в 1990-х гг. едва ли повлияли на застарелую проблему низкой трудовой мотивации жителей села и, по сути, никак не оздоровили искалеченную социальную структуру деревни. Дело, как выяснилось, было не только в рынке!
В раздаточной советской экономике отсутствовало полноценное денежное хозяйство, а ресурсы распределялись в натуральном или полунатуральном виде. Но даже там, где деньги сохраняли свою роль, из-за нивелированной системы оплаты низкоквалифицированный труд практически уравнивался с квалифицированным. Реальная ресурсная наполненность советского рубля была неодинаковой. В привилегированных секторах экономики, таких как оборонно-промышленный комплекс и тяжелое машиностроение, он покрывался качественными и дефицитными ресурсами. Но в сельском хозяйстве, в гражданском машиностроении, в легкой и пищевой промышленности, т.е. в непривилегированных, технически отсталых и ресурсоемких отраслях, фиктивная доля в ресурсном обеспечении рубля была значительно выше.
Те сотни миллиардов рублей, которые были закачаны в советское сельское хозяйство в 1960–1980-х гг., лишь в незначительной степени имели фактическое покрытие реальными ресурсами. Создавалась иллюзия государственной поддержки, хотя на деле проблема не решалась, а лишь загонялась вглубь. В отличие от дефицитных ресурсов, распределяемых в натуральном виде, не обеспеченные ими деньги невозможно было конвертировать в кадры профессиональных агрономов, качественную сельскохозяйственную технику и современные удобрения. Повысить производительность труда, преодолеть социальную деградацию, прямым следствием которой было повальное пьянство и низкая трудовая мотивация, просто за счет притока денег было невозможно. И хотя в формальном выражении заработок рядового колхозника постоянно увеличивался, эффект от притока не обеспеченных товарами и ресурсами рублей был скорее негативным. Пустеющее потребительское пространство все более заполнялось водкой, с помощью которой государство эффективно изымало избыточную денежную массу из карманов сельских тружеников.
Необходимые же для реанимации сельского хозяйства дефицитные качественные ресурсы можно было изыскать, лишь сократив непомерные аппетиты оборонно-промышленного комплекса. В годы перестройки много и охотно говорилось о конверсии ВПК, но, к сожалению, советской элитой она понималась примитивно и однобоко, чуть ли не как просто дополнительное производство на оборонных заводах необходимых народу кастрюль, электрочайников, холодильников и стиральных машин. Естественно, решение использовать сборочные линии первоклассных предприятий оборонно-промышленного комплекса с целью расширения производства товаров длительного пользования лежало на поверхности, но одного этого было мало. В советской раздаточной и структурно деформированной экономике, в которой десятилетиями искусственно и целенаправленно создавались диспропорции между отраслями, конверсия, даже если бы гипотетически она и прошла успешно, была бы исключительно трудным и длительным делом. В первую очередь для исправления накопившихся диспропорций требовалось наладить успешную военно-гражданскую технологическую синергию и переток квалифицированных научно-технических кадров из оборонных в гражданские отрасли, чтобы повысить технологический уровень последних.
Как ни парадоксально, по мнению У. Ростоу, ведущего американского социолога и экономиста, в позднем СССР имелось, по сути, все необходимое для строительства общества потребления. «Неужели ваша мощная индустриальная страна, – с удивлением задавал он вопрос советским коллегам, – не может осилить производство товаров народного потребления? Если этот этап смогли пройти совершенно неразвитые в индустриальном отношении страны, то вы можете сделать это очень легко. Мне кажется, что все сомнения относительно вашего будущего – просто недоразумение» [Яременко 1998: 25-26]. Несмотря на то что уровень жизни основной массы советских граждан действительно неуклонно повышался на протяжении всех послевоенных десятилетий, и в 1988 г. он был явно выше, чем в 1968, 1978 или, скажем, в 1998 г., переход СССР к обществу потребления не произошел.
Анализ широкого исторического контекста показывает, почему. Подобное лечится подобным! Если диспропорции были порождены тем, что в преддверии Второй мировой войны непривилегированные отрасли ресурсораздаточной экономики стали донорами привилегированного оборонного сектора, устранение диспропорций требовало превратить военно-промышленный комплекс в донора гражданской экономики. Но для фундаментального пересмотра народнохозяйственных приоритетов требовалось снизить остроту военно-политического противостояния с Соединенными Штатами и их союзниками, разумно ограничить цели СССР в «холодной войне» и, как минимум, серьезно сократить масштабы разорительной гонки вооружений. То есть, в конечном итоге, для решения хозяйственных проблем СССР требовалось не экономическое, но политическое и военно-стратегическое решение.
СССР, как и Российская империя до него, по своей структуре представлял собой типичное военное государство, поэтому армия играла совершенно особую роль в жизни советского общества. В преддверии Второй мировой войны преодоление культурной, экономической и, как следствие, военно-технической отсталости неизменно выступало главным побудительным мотивом советской государственной политики. Однако после триумфа советского оружия в 1945 г. и устранения той экзистенциальной угрозы, которую воплощала гитлеровская Германия, военное строительство в послевоенном СССР начало стремительно утрачивать какие-либо осмысленные стратегические приоритеты и чем дальше, тем больше вырождалось в простую погоню за достижением паритета с США по всему диапазону военно-технических усилий, что было просто недостижимо с учетом несопоставимых возможностей СССР и его западных соперников. Особенно важно здесь подчеркнуть, что ошибкой была не сама «холодная война» и даже не гонка вооружений как таковая, а скорее то, какими методами последняя осуществлялась.
«Холодная война» началась и закончилась при однозначном преимуществе США и их западноевропейских союзников, к числу которых относилось большинство экономически развитых стран на планете. Поэтому, строго говоря, удивляться нужно не тому, что СССР в конечном итоге эту войну проиграл, а скорее тому, что ему удавалось выдерживать такое противостояние на протяжении столь долгого времени. Однако, несмотря на то что гонка вооружений объективно тяжелее давалась более бедной стране, проблема общей нехватки ресурсов на фоне США не должна подменять собой проблему неправильного и неэффективного использования ресурсов, фактически имевшихся в наличии. Утрата политической элитой СССР умения формулировать приоритеты военного строительства и таким образом экономить силы в условиях неизбежного дефицита материальных средств имела для Советского Союза самые печальные последствия, поскольку в поединке с Западом он выступал как слабейшая сторона.
Проиллюстрировать это можно на следующем примере. Значительные капиталовложения в развитие советской сухопутной армии и тактической авиации, очевидно, имели смысл в 1950–1960-х гг., т.е. до тех пор, пока США сохраняли над СССР многократное превосходство в численности ракетно-ядерных сил. Подобная практика, если вспомнить знаменитые хрущевские сокращения в армии, авиации и на флоте, реализовывалась не всегда последовательно, но по крайней мере она укладывалась в общую логику стратегии непрямых действий, поскольку подавляющая мощь советской сухопутной армии превращала Западную Европу в заложника нашей безопасности перед лицом превосходящего американского арсенала межконтинентальных баллистических ракет.
Однако после того, как ценой огромного напряжения сил СССР на рубеже 1960–1970-х гг. значительно сократил это отставание, его арсенал межконтинентальных баллистических ракет в случае ядерной войны уже обеспечивал нанесение Соединенным Штатам неприемлемого ущерба. В новых условиях прежняя стратегическая концепция, когда силы общего назначения компенсировали слабость ракетно-ядерных сил, стала неактуальной. И следовательно, дальнейшее количественное наращивание сухопутной армии, тактической авиации и надводного флота попросту утрачивало военно-стратегический смысл. На смену прежней стратегической политике должна была прийти новая. Она также могла быть асимметричной по своей природе, поскольку мощь советского ракетно-ядерного арсенала, отныне способного гарантировать нанесение США неприемлемого ущерба, позволяла сэкономить ресурсы за счет значительного сокращения сил общего назначения. Однако ни сокращения, ни даже замораживания численности советской сухопутной армии не произошло, и она по инерции продолжала увеличиваться в размерах. Ее численность в 1960–1980-х гг. увеличилась с 3,5 до 5 млн чел. [Феськов, Калашников, Голиков 2004: 5], а вместе с этим выросли и расходы на ее содержание и производство обычных видов вооружений. Для сравнения, 22 июня 1941 г. общая численность Красной армии составляла 4 826 000 чел. [Веселов 2000: 34].
К 1980-м гг. полностью боеготовые и укомплектованные по штатам военного времени соединения постоянной готовности составляли лишь малую часть огромной советской армии. Между тем 70–80% частей и соединений имели сокращенный состав по штатам мирного времени. В ходе мобилизационного развертывания, осуществляемого в так называемый угрожаемый период, кадрированные части планировалось пополнить резервистами и доукомплектовать до штатов военного времени. Для обеспечения мобилизации на складах хранилось огромное количество вооружения, зачастую изрядно устаревшего и разнотипного. С учетом немалых размеров России мобилизация в ней всегда была делом сложным и длительным. Громоздкий механизм советской армии требовал для завершения мобилизационного развертывания от нескольких недель до нескольких месяцев. Но на дворе уже был ракетно-ядерный век, и подлетное время баллистических ракет исчислялось минутами. В таких условиях практическая польза от содержания архаичной массовой кадрово-резервной армии выглядела, мягко говоря, сомнительной. Дорогостоящее складирование огромных запасов вооружения и боеприпасов, даже безнадежно устаревших образцов времен Великой Отечественной войны, по мнению советского командования, требовалось для того, чтобы сохранить возможность продолжать вооруженную борьбу даже после того, как войска первой линии, основные города и промышленные центры будут уничтожены ядерным ударом. Теплилась надежда, что даже в этом случае на рассредоточенных по стране резервных складах уцелеет хотя бы какая-то часть запасов. По сути же все это напоминало не столько подготовку к войне, сколько весьма затратное ожидание Апокалипсиса.
СССР, словно позабыв о том, что параллельное движение к двум амбициозным целям одновременно таит в себе риск не достичь ни одной из них, упрямо готовился одновременно и к ядерной войне, и к недопущению повторения еще одного «1941 года». С учетом весьма прочного стратегического положения СССР, имевшего в виде стран, входивших в Организацию Варшавского договора, надежный «пояс безопасности» и напрямую контролировавшего значительную часть Центральной и Восточной Европы, подобная перестраховка выглядела явно излишней и едва ли диктовалось какой-либо разумной военной необходимостью.
Ошибки и парадоксы советской военной политики можно объяснить институциональными причинами, а именно отсутствием в Советском Союзе авто- ритетного органа долгосрочного стратегического планирования, ответственного за создание военной доктрины и разработку политики в области национальной обороны. Причем происходило это на фоне снижения авторитета и влияния Коммунистической партии, более неспособной играть прежнюю роль политического суперарбитра, призванного уравновешивать конкурирующие ведомственные интересы. В эпоху развитого социализма КПСС оказалась бессильна предотвратить деструктивное расширение ведомственной автономии оборонно-промышленного комплекса, который при Д.Ф. Устинове посредством закулисных аппаратных интриг практически полностью подчинил себе вооруженные силы.
Победа ВПК над армией имела целый ряд опасных последствий. С логической точки зрения процесс заказа и закупок вооружения и военной техники для армии должен включать оценку степени военной угрозы, вывод о необходимости разработки и принятия на вооружение тех или иных систем оружия, отвечающих определенным требованиям, их заказ, закупку и оперативное развертывание [Каменнов 2015: 169]. Но, к сожалению, в позднем СССР не спешили следовать данной логике. В советской системе за армией не только не признавалось право играть самостоятельную политическую роль, но даже право на отстаивание корпоративного мнения при решении узкоспециальных вопросов военного строительства.
Совершенно абсурдные черты данная ситуация приобрела после назначения на должность министра обороны Д.Ф. Устинова – фактического руководителя советского ВПК. В результате оборонно-промышленный комплекс, по сути, получил возможность самому себе заказывать новую боевую технику и системы вооружений. Реальные потребности вооруженных сил при этом зачастую игнорировались и не находили отражения в планах производства. Промышленность выпускала боевые системы, которые не отвечали в полной мере потребностям армии. Вследствие огромного аппаратного веса Устинова в любых спорных ситуациях партийная элита принимала сторону не военных, а «красных директоров», которые, следуя узковедомственным интересам, постоянно расширяли номенклатуру производимых изделий.
В результате бичом советской армии стала разнотипность параллельно эксплуатируемых систем вооружения. В армию одновременно поставлялись, не считая модификаций, сразу три типа основного боевого танка. Флот, РВСН, авиация также сталкивались с трудностями, эксплуатируя различные типы ракет, самолетов, надводных кораблей и подводных лодок приблизительно одного поколения и класса. Ни о какой унификации в таких условиях не могло идти речи, тогда как общая стоимость содержания арсенала разнотипных образцов значительно возрастала. В разгар «холодной войны» для поддержания заданных темпов гонки вооружений армия и ВПК требовали все новых и новых ресурсов, однако, как можно убедиться, они далеко не всегда расходовались рационально и эффективно.
Преодолеть экономические затруднения СССР без радикального пересмотра военно-стратегических приоритетов и, как следствие, без снижения внеэкономической нагрузки на народное хозяйство было попросту невозможно. Вместо поиска внешнеполитического и военно-стратегического решения, нацеленного на снижение бремени ставших неподъемными военных расходов, и последующего оздоровления гражданского сектора экономики путем переливания в него высококачественных кадровых и технологических ресурсов, высвободившихся в оборонно-промышленном комплексе, изыскивались утопические способы интенсификации гражданского сектора без принципиального пересмотра народнохозяйственных приоритетов. Возникали разнообразные паллиативы вроде пресловутого закона «О кооперации в СССР» и введения хозрасчета на предприятиях. Но все оказалось тщетным, потому что слабость гражданского машиностроения, а также обрабатывающей, легкой и пищевой промышленности была следствием структурного перекоса советского народного хозяйства в целом. Неравновесие же, в свою очередь, вызывалось административным регулированием отраслей с целью опережающей концентрации ресурсов в обороннопромышленном комплексе, и потому не могло быть эффективно преодолено неадминистративными мерами.
Что особенно характерно, в непонимании этого обстоятельства были едины как советская номенклатура, так и будущие реформаторы либерального толка. Технократы из команды Горбачева полагали, что гражданская экономика неэффективна по причине порочности самой плановой системы, тогда как оборонную промышленность трогать нельзя исходя из высших стратегических приоритетов [Яременко 1998: 120-121]. Реформаторы же из команды Гайдара просто пошли чуть дальше, и вместо того чтобы попытаться использовать потенциал ВПК для преодоления структурного дисбаланса и выхода из кризиса, они в начале 1992 г. просто взяли и в одночасье обрубили финансирование наиболее технологически развитого сегмента отечественной экономики, который в 1990-е гг. выживал лишь благодаря экспорту [Шлыков 2001]. Не поставив больному верный диагноз и даже не изучив как следует его анатомию, они поспешили прописать ему в качестве основного лекарства рыночную либерализацию.
Перефразируя известное высказывание Ю.В. Андропова, в СССР мы не знали не только «общества, в котором живем», но и той народнохозяйственной среды, в рамках которой существуем. Советская экономическая мысль так и не выработала своего собственного языка. Описание же наших явлений при помощи западного экономического лексикона зачастую приводило к искажению реальности. Тезис об имманентной неэффективности советской социалистической экономики, который возник в ходе общественно-политической полемики 1980-х гг., нуждается в уточнении хотя бы по той причине, что неспособность советской партийно-политической верхушки справиться с экономическими затруднениями свидетельствовала о кризисе не столько экономической, сколько политической системы позднего СССР. Экономическое перенапряжение вытекало из непомерных военных расходов, а они, в свою очередь, были логическим следствием ошибок при анализе военно-стратегического положения СССР, во многом допускавшихся советским руководством вследствие недостатка кругозора и эрудиции.
Экономический детерминизм, долгие годы господствовавший в советских общественных науках, затруднял понимание того, что в современном мире просто не может существовать экономика, оторванная от политики. Лишь бухучет не имеет политического измерения, в политэкономии же иерархическая связь двух этих явлений следует уже из самого названия данной дисциплины. Поэтому в советской реальности не экономика определяла политику, а политика диктовала экономику.
И что интересно, после крушения СССР в этом отношении практически ничего не поменялось. Решение строить в России либеральную рыночную экономику в основе своей оставалось политическим и едва ли диктовалось чисто экономическими соображениями. «Либеральная экономика в нашей стране, – утверждал Ю.В. Яременко незадолго до смерти, – это не столько продукт либеральной мысли, сколько продукт бюрократического и технократического сознания, ищущего выход из тупиковой ситуации. ‹…› Либеральный догматизм – это родной сын бюрократической иллюзии всемогущества государственной власти. Бюрократическое начало присутствовало во всех аспектах либеральной поли- тики – навязанной и разрушительной либерализации цен, регламентированной приватизации, установлении системы экспортных и импортных тарифов, означающих открытие экономики» [Яременко 2015].
При этом важно помнить, что даже на Западе идейно-доктринальная монополия экономического либерализма установилась не вследствие объективной эволюции экономической мысли, естественным путем изжившей ошибочные и тупиковые концепции, а в первую очередь вследствие того, что альтернативная историческая школа, созданная Ф. Листом, Г. фон Шмоллером и рядом других немецких ученых-экономистов, оказалась полностью дискредитированной в результате поражения Германии в ходе двух мировых войн. Преступления нацизма невольно бросили на нее тень, поэтому после 1945 г. ее вытеснила либеральная школа, и та погибла. Однако в конце XIX в. применение на практике именно рецептов исторической школы в течение каких-то 30 лет превратило Германию из аграрного захолустья во вторую экономику мира.
Как отмечал все тот же Ю.В. Яременко, «либеральная школа имеет свои корни на Западе, в первую очередь в Англии и США, но она полностью чужда тому типу общественного устройства, который сложился у нас. Западные теоретические труды никак не корреспондируются с нашей действительностью» [Яременко 1998: 77-78]. «Теоретически, – продолжал он свою мысль, – можно представить себе саморегулирующуюся рыночную экономику в духе воззрений Фридмена или Хайека. В их аргументации есть, возможно, какая-то правда. Но к нашим условиям их аргументация не будет применима еще очень долго. И это доказала реальная практика. Отменив механизм натурального распределения ресурсов, правительство (в 1990-е гг.) вынуждено было заменить его другим – финансовым [Яременко 1998: 210].
О том, что через четверть века после событий 1991 г. экономика России, несмотря на весь ее рыночно-капиталистический макияж, по-прежнему сохраняет исторически присущий ей ресурсораздаточный характер, также писал в своих книгах современный социолог С.Г. Кордонский. «Усилиями “молодых реформаторов”, – отмечал он, – главным ресурсом постперестроечного государства стали деньги, которые сейчас накапливаются, их распределение планируется, выделение фондируется, а контроль за денежной массой сейчас такой же жесткий, как контроль за стратегическими ресурсами при советской власти. Рубли бюджетополучателям распределяются вовсе не капиталистически, как настоящие деньги, а безвозвратно, как ресурсы» [Кордонский 2007: 27] .
Свойственное нам нежелание считаться с историческими условиями собственной страны повышает риск того, что разрабатываемая сегодня «Стратегия-2030» станет простым повторением рецептов, которые либо уже доказали свою сомнительную пригодность в условиях России, либо окажутся неприемлемыми в сложившихся внешнеполитических и военно-стратегических условиях. Отечественное экспертное сообщество и так называемый либеральный блок правительства демонстрируют удивительное единодушие в таких вопросах, как вхождение России в подконтрольную Западу глобальную экономику. Последнее преподносится как едва ли не безальтернативная мера, без которой становится невозможным прорыв России в группу экономически развитых стран. На пути эффективного встраивания России в глобальный рынок якобы стоят «институциональные проблемы», под которыми понимаются коррумпированность и общая неэффективность государственного аппарата, отсутствие политической конкуренции и твердых гарантий прав частной собственности. Совсем недавно А.Л. Кудрин напомнил о технологическом отставании нашей страны и пытался убедить В.В. Путина встроить Россию в международные технологические цепочки, «пусть даже и на вторых ролях»1. При этом осторожно умалчивается как о последствиях такого решения для обрабатывающих отраслей отечественной экономики, так и о том, на какое место в рамках мирового разделения труда сможет в таком случае реально претендовать Россия. Готов ли сам Запад предложить нам какую-либо иную экономическую нишу, кроме ниши экспортера углеводородов? Очевидно, что с началом украинского кризиса курс на встраивание России в мировую экономику входит во все более явное противоречие с внешнеполитическим курсом на ревизию итогов 1991 г. Движение в направлении сразу двух этих целей попросту нереально, и потому чем-то здесь неизбежно придется пожертвовать.
Важнейшим же, на мой взгляд, по-прежнему остается вопрос об иерархии в отношениях между политикой и экономикой. Иными словами, является ли экономическое благополучие самодовлеющей величиной, или же его следует понимать лишь как одно из средств в арсенале политики? Если решение ставить российское народное хозяйство на либерально-рыночные рельсы в основе своей было политическим, то и возможный в будущем переход к альтернативному экономическому курсу также будет вытекать в первую очередь из соображений внутренней и внешней политики.
Сложность заключается в том, что, хотя для корректировки правительственного курса и необходимо политическое решение, оно в то же время потребует экономических аргументов для своего обоснования. Поэтому речь должна идти не о крайностях вроде призывов к возврату к советской распределительной практике и полному отказу от существующих на сегодняшний день рыночных механизмов, но лишь о поиске оптимального соотношения рыночной и внерыночной составляющих применительно к нашей исторически сложившейся народнохозяйственной среде.
Список литературы Размышления о «Стратегии-2030»
- Бессонова О.Э. 2006. Раздаточная экономика России: Эволюция через трансформации. М.: РОССПЭН. 145 с
- Блиох И.С. 1882. Финансы России XIX столетия. История -статистика. СПб. Т. 1-4
- Веселов В.А. 2000. Состояние вооруженных сил Советского Союза перед Великой Отечественной войной. -Великая Победа: историческое значение и современность: материалы науч. конф. 28 апр. 2000 г. (под общ. ред. А.Н. Кудинова). Тверь: ТвГУ. 38 с
- Гайдар Е.Т. 2006. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН. 448 с
- Каменнов П.Б. 2015. Рецензия на кн.: Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Оборонная промышленность и торговля вооружениями КНР. Центр анализа стратегий и технологий; Российский институт стратегических исследований. М., 2013. -Проблемы Дальнего Востока. № 3
- Ключевский В.О. 1959а. Памяти А.С. Пушкина. -Сочинения в восьми томах. Т. 8. Исследования, рецензии, речи (1890-1905). М.: Издательство социально-экономической литературы
- Ключевский В.О. 1959б. Состав представительства на Земских соборах древней Руси. -Сочинения в восьми томах. Т. 8. Исследования, рецензии, речи (1890-1905). М.: Издательство социально-экономической литературы
- Ключевский В.О. 1989. История сословий в России. -Сочинения в девяти томах. М.: Мысль. Т. 6
- Колеров М.А. 2012. Европейские предпосылки сталинизма: индустриализация, биополитика и тотальная война. -Величие и язвы Российской империи. Международный научный сборник в честь 50-летия О.Р. Айрапетова. М.: ИД «Регнум». С. 610-711
- Кордонский С.Г. 2007. Ресурсное государство. М.: REGNUM. 108 с
- Мигулин П.П. 1899-1901. Русский государственный кредит (1769-1899). Харьков. Т. 1-3
- Раупах Р.Р., фон 2007. Facies Hippocratica (лик умирающего). Воспоминания члена Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года. СПб: Алетейя. 416 с
- Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И. 2004. Советская Армия в годы «холодной войны» (1946-1991). Томск: Изд-во Томского университета. 246 с
- Шлыков В.В. 2001. Что погубило Советский Союз? -Военный вестник МФИТ. № 8-9
- Яременко Ю.В. 1998. Экономические беседы. М.: ЦИСН. 344 с
- Яременко Ю.В. 2015. Современная экономика России: анализ и стратегия развития. -Проблемы прогнозирования. № 5. С. 4-10