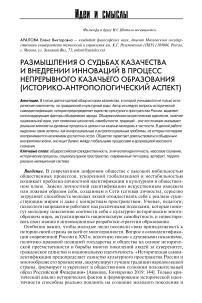Размышления о судьбах казачества и внедрении инноваций в процесс непрерывного казачьего образования (историко-антропологический аспект)
Бесплатный доступ
В статье дается краткий обзор истории казачества, в которой учитываются не только исторические компоненты, но гражданский и культурный коды. Автор исследует вопросы исторической самоидентификации, которая предопределяет единство культурного пространства России, выделяет консолидирующие факторы объединения народа. Общероссийская патриотическая идеология, наличие национальной идеи, учет почвенных ценностей, самобытности, традиций - все эти позиции оказывают реальное влияние на духовные процессы в целом и на казачью молодежь в частности. В данной работе выделены такие аспекты, как интерсоциальные и антропосоциальные проблемы, из которых последние воспринимаются населением достаточно остро. Общество перестает довольствоваться обыденным восприятием жизни, оно ищет баланс между глобальными процессами и архаизацией массового сознания.
Общероссийская гражданственность, этническая идентичность, массовое сознание, исторические процессы, социокультурное пространство, современный тип казака, артефакт, территориально-милиционная система
Короткий адрес: https://sciup.org/170207774
IDR: 170207774 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-6-221-230
Текст научной статьи Размышления о судьбах казачества и внедрении инноваций в процесс непрерывного казачьего образования (историко-антропологический аспект)
Введение. В современном цифровом обществе с высокой мобильностью общественных процессов, ускоренной глобализацией и нестабильностью возникает проблема личностной идентификации в культурном и общественном плане. Замена личностной идентификации искусственным имиджем или ложным образом себя, созданным в Сети (сетевая личность), серьезно затрудняет способность молодых людей отождествлять себя с реально существующим миром и даже с конкретным пространством. Ученые, педагоги, психологи напряженно работают над различными подходами, которые помогут молодому поколению соотнести себя с культурно-историческим многообразием мира, актуализировать национальную самобытность и инвестировать свои знания в инновационные разработки стратегии образования.
Особенно важно, чтобы молодые люди осознали свою принадлежность к истории своей страны во всей ее многогранности. Вопрос о самоидентификации современной России в ХХI в. вплотную связан с духовными исканиями, политико-правовой позицией государства и общества на основе исторической преемственности и борьбы многих поколений людей за суверенитет, гражданское единство и национальную идентичность. «Историческая самоидентификация предопределяет единство культурного пространства России и многообразие его проявления, аккумулирует лучшие традиции народов нашей страны, формирует и укрепляет в общественном сознании положительный образ Российской Федерации» [Авакова, Гончаренко 2019: 144]. Только критический анализ исторических фактов и формирование исторической идентичности способны реально повлиять на сознание молодого поколения и способствовать формированию устойчивых патриотических представлений, духовно-нравственных ориентиров, а также концентрации внимания на значимых общенациональных целях. Следует отметить, что процесс осознания молодыми людьми себя как части истории России и мировой истории уже запущен и дает свои результаты: «если в 2006 году на вопрос: “Считаете ли вы себя патриотом?” утвердительно ответили 57%, то к 2020 году цифра значительно возросла: утвердительный ответ дали 82% опрошенных»1.
Методология. Тяжелый переход от «дикого… “подражательного” капитализма к самоидентификации в окружающем глобализированном мире завершен, российское общество, и в первую очередь ученые, ищут новые, в том числе и методологические, модели российской государственности с опорой на историко-культурный фундамент и мощный духовно-нравственный потенциал [Токарева 2021: 116].
Совершенно очевидно, что консолидирующим фактором объединения народа является ясная формулировка общероссийской патриотической идеологии, некоего надэтнического концепта (или национальной идеи), охватывающих духовные ценности многонационального населения, учитывающих самобытность, традиции и своеобразие воспитательных тенденций. Совершенно очевидно, что вопрос: «Кто мы?» – в современной ситуации не является праздным. «Однако при формировании коллективной, культурной и гражданской идентичности существуют вполне реальные риски столкновения общероссийской, западной и этнической идентичностей, чему очень способствуют современные дистанционные и цифровые технологии. Учитывать эти процессы совершенно необходимо, понимать смысл и суть общественных изменений – это значит иметь возможность взаимодействовать с “молодыми умами”, учитывать сложность понимания не только национальногражданской, но и государственно гражданской идентичности» [Дробижева, Рыжкова 2015: 21]. Именно государственно-гражданский подход к проблеме и позволяет снизить «градус накала» у современного поколения.
Проблемы, возникающие в духовно-культурном пространстве России, можно подразделить на интерсоциальные, антропосоциальные и природносоциальные (классификация И.Т. Фролова). Острее всего выражены антро-посоциальные показатели, т.е. отношения человека и общества в рамках научно-технического прогресса, инновационных тенденций, зачастую меняющих представление об образовании, культуре и образе жизни отдельного человека и целой нации. Под влиянием новых возможностей человек (и даже целый этнос) ощущает свою неустойчивость в социокультурном пространстве, необходимость новой биосоциальной адаптации, потребность в смене мировоззренческих парадигм, коррекции (если не ликвидации) кризиса идентичности. Обыденное восприятие жизни должно быть соотнесено с глобальными мировыми тенденциями. Необходимо искать баланс между глобальными процессами и архаизацией массового сознания, не стремясь идеализировать культурную унификацию, но защищая национальную и культурную самобытность.
В указе Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» отражены цели государственной национальной и культурной политики, важнейшей из которых является укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства российского общества. Законодательное закрепление этих целей нашло свое отражение и в Стратегии государственной и культурной политики на период до 2030 года в еще более глобальных масштабах – в гражданском, культурном и историческом. Не подлежит сомнению, что не только государственное и нормативное регулирование реально уменьшает угрозу формирования негативной идентичности у молодежи. Коллективноличностный, темпорально-личностный, культурно-глобалистский подходы, применяемые российскими учеными и педагогами, также существенно облегчают задачу укрепления общероссийской гражданственности и этнической идентичности. Достичь такого баланса можно, лишь определив аксиологические основы бытия данного общества, а также ценностные ориентации его развития. На первый план в данном случае выходят моральные устои, которые, в свою очередь, утверждают идеалы совершенства. Эти идеалы акцентируются в истории, философии, литературе, педагогике, психологии и других гуманитарных дисциплинах. Моральные параметры дают индивиду установку на способ социализации и взаимодействия с людьми. Нравственные основы межкультурной коммуникации вытекают из понимания духовности, а национальная и религиозная самоидентификация становится фактором социального взаимопонимания. «Мы должны взять из различных исторических периодов все по-настоящему значимое и ценное. Нам нужен великий синтез духовных идеалов Древней Руси. Синтез, который можно описать формулой “вера–справедливость–солидарность–достоинство–державность”», – говорит патриарх Московский Кирилл1.
Результаты исследования. Из самых глубин истории современная Россия получила феномен казачества, которое можно рассматривать как развивающееся историческое явление с преобладанием коллективистских соборных форм жизни, сохранением духовных традиций и ценностей. Казачество постоянно фигурирует в историческом процессе России. Судьба бросает казаков на окраины Российской империи, делает из них то вольных людей и народных заступников, то государственную или антигосударственную силу. «Они обеспечивали себя продовольствием, имели собственное техническое оснащение, в значительной степени поддерживали свою безопасность и боеготовность, защищая рубежи Отечества. В годы войн казаки нанимались на службу к царю, сражаясь на самых трудных участках. Лев Толстой справедливо отмечал, что граница породила казачество. Казаки породили Россию». В результате «сложился тип казака – универсального воина, одинаково способного участвовать в морских набегах, сражаться на суше в конном и пешем строю и, как показало будущее, прекрасно знающего фортификационное, минное и подрывное дело» [Казачество – щит Отечества 2005: 9-10].
В отечественной истории и философии исторически сложилось уважительное отношение к военному делу. В.С. Соловьев считал, что союз государства и армии необходим, чтобы Земля не превратилась в ад. «Организация войны в государстве есть первый великий шаг на пути к осуществлению мира» [Cоловьев 2018: 365]. И.А. Ильин называет армию «действительным, истинным авангардом нашей великой России, ее грядущего возрождения и духовного расцвета» [Ильин 1915: 48]. М.О. Меньшиков в своем труде «Письма к ближним» пишет: «Армия есть величайшая драгоценность народа, необходи- мейший орган, обеспечивающий государству жизнь… Армию надлежит оберегать как святыню, заботясь всемерно о сохранении ее духа» [Меньшиков 1911: 128].
И снова И. Ильин: «…истинною и живою опорою государства и власти всегда были те люди, те слои, те группы, которые в этом служении видели долг чести и бремя ответственности, которые стремились именно служить земле, а не властвовать над нею… Это организованные и дисциплинированные кадры патриотических добровольцев русского государственного тягла» [Ильин 1999: 27]. Следует помнить, что традиции и военные ритуалы являются наглядным напоминанием об основных ценностях военной культуры? социальной жизни, связаны с обучением и воспитанием будущих молодых воинов. «Динамичная военная культура настолько важна, что ее отсутствие или недостаточно высокий уровень могут оказать разрушительное воздействие на боеготовность вооруженных сил» [Репетенко 2023: 104].
Огромная роль в армейской культуре принадлежит ритуалам: принятие присяги, награждение отличившихся воинов и т.д. никогда не носили формальный характер, не только были связаны с боевыми действиями, но и влияли на процессы обучения и воспитания будущих воинов. Особенно ярко эти тенденции просматриваются в подготовке казачьей молодежи. Традиции и ритуалы складывались на протяжении десятилетий, были тесно связаны с повседневной жизнью и зачастую становились «устойчивыми формами общественных отношений».
Непреходящими ценностями для казачества были и остаются понятия коллективизма, личной свободы, соблюдение государственных интересов, прав и обязанностей перед обществом – т.е. все то, что необходимо государству в современных условиях. Естественно, на этом фоне возникает острая потребность соотнесения деятельности казачьих формирований со службой в регулярной армии. Первая мировая война, три революции не дали возможности царскому правительству, а позже – и большевикам уделять много внимания духовно-нравственному потенциалу вооруженных сил казачества. Казаки отказывались нарушать присягу, сдавать оружие, что, естественно, привело к расформированию боевых казачьих полков. Начался процесс упадка патриотизма как в армии в целом, так и среди казаков в частности. Налицо была деградация духовно-нравственного потенциала, искоренение прежних норм и традиций, отстранение (а иногда и устранение) командного состава – от есаула до атамана. Новое государство создавало новую армию, основанную на новых традициях и ритуалах. Казачьи полки были расформированы, и сами казаки подвергались репрессиям, ссылкам, духовному уничтожению.
Однако уже в 30-е гг. XX в. возникла потребность в восстановлении русских исторических традиций в Красной армии и на флоте. Стало ясно, что разрушения всегда осуществляются быстрее, чем восстановление, тем более, когда речь идет о восстановлении духовного потенциала, возврате к традициям, преемственности в армии, поднятии воинского духа и укреплении дисциплины. Среди казачества этот процесс шел достаточно медленно.
В годы Великой Отечественной войны были сформированы казачьи дивизии, мужественно сражавшиеся на фронтах родного Отечества. На Дону развернулось массовое движение за создание казачьего ополчения. Все это делалось в тяжелейших условиях военного времени. «Единство народа неразрывно связано с единым пониманием его истории, с пониманием общих героев, с сохранением общих памятников, с общим торжеством в годовщины победы и с общей печалью в годовщины трагедий», – отметил в своей речи патриарх Московский Кирилл1.
Итак, казак по сути своей – воин, и воин универсальный. Как же использовать такую мощную силу в мирное время? Над этой проблемой бились лучшие умы России. Граф Аракчеев, при полной поддержке и покровительстве Александра I, создал военные поселения: с целью сокращения военных расходов содержание некоторых частей армии вменялось в обязанность крестьянам. Расселенные среди крестьян войска должны были слиться с последними, помогать убирать урожай, приучать население к военной жизни и дисциплине. Первоначальное обучение рекрутов из крестьян также входило в обязанности военных. Отчасти именно казачество поддержало эту идею. Однако в целом «хорошо продуманная» и осуществленная на практике концепция с треском провалилась. Как писал один из российских историков, «на поверхности был блеск, а внутри уныние и бедствие». Почти во всех губерниях задачи, которые были поставлены перед военными поселениями, выполнены не были.
Современные ученые, анализируя полувековой опыт развития военнопоселенческих формирований в царской России, пришли к выводу, что «военные поселения в том виде, в каком они были задуманы Александром I и реализованы Аракчеевым, были лишь одной из многих форм территориально-милиционного строительства, причем не лучшей.
Напомним, что казачество существовало в России с давних пор как более эффективная, естественно выросшая форма территориально-милиционного строительства. В мирное время казаки сочетают производственно-экономическую функцию с военной подготовкой, а в военное время превращаются в вооруженную силу» [Шатило 2013: 90]. Создавая военные поселения, Александр I и Аракчеев внедряли форму территориально-милиционного строительства, акцентируя внимание на использовании войсковых частей в производительных целях в мирное время. Подготовка массовых резервов для армии отходила на второй, а то и третий план. Следует также учитывать, что трудовое использование войск происходило в крепостнической России. Превращение солдат в тех же крепостных шло гораздо быстрее, чем превращение крепостных в боевых воинов. Затеять хотя бы частичный перевод войсковых частей в разряд милиционных формирований в крепостной России было невозможно. Еще и поэтому идея военных поселений потерпела крах.
Только после Октябрьской революции большевики стали делать практические шаги по пути развертывания различных милиционных формирований. Советская республика имела 5-миллионную армию. Чтобы компенсировать хотя бы частично расходы на ее содержание, восемь войсковых объединений были переведены (в 1920 и 1921 гг.) на положение «трудовых армий». Все восемь объединений выполняли важные народнохозяйственные задачи по восстановлению разрушенной экономики. В 1923 г. была проведена военная реформа с введением смешанной системы комплектования армии и расширением территориально-милиционных форм, что позволило привлечь к производительной деятельности трудоспособную часть мужского населения, а также не оставить без внимания военную подготовку народных масс.
«Парадоксально, но факт: территориально-милиционная система конструировалась и строилась Советской властью с использованием некоторых элементов только что ликвидированных казачьих войск дореволюционной
России. Так же, как и казачьи войска, советская система территориальных дивизий оценивалась на этом этапе как дополнение к небольшой регулярной кадровой армии – «армии прикрытия», по выражению М.В. Фрунзе» [Шатило 2013: 98].
Соотношение между военно-специализированными и милиционными формами постепенно стало изменяться в пользу последних, и М.В. Фрунзе делает следующий вывод: «Система нашей обороны все больше и больше начинает опираться не на кадровые, а именно на территориально-милиционные части» [Фрунзе 1951: 450]. Правильный баланс между территориальномилиционными соединениями и регулярно-кадровым составом дал в тот момент возможность поддержать на должном уровне военно-техническую мощь страны и успешно двигаться по пути внедрения достижений научнотехнического прогресса.
Соответственно, в Великой Отечественной войне участвовали не только регулярная армия, но и весь по-военному организованный народ. В данном случае использование системы профессионально-специализированных и милиционных форм полностью себя оправдало. После окончания Великой Отечественной войны возникли и существуют по сей день новые формы милиционного строительства, например МЧС – военизированная организация, выполняющая миросозидательные задачи. Деятельность МЧС в возможной войне может оказаться решающей для спасения населения. Множественные экологические и экономические кризисы, пандемии и возникающие военные очаги заставляют население искать более гибкие формы организации спасения от местных и глобальных катастроф. Военные организации могут создаваться на основе сочетания специализированных и милиционных форм деятельности.
В этом плане очень показательной является комплектация Советской армии, которая никогда не была армией одних лишь кадровых военных. Советская армия комплектовалась и за счет военнообязанных или добровольцев, призываемых на относительно непродолжительные сроки из числа гражданского населения. «Это значит, что регулярная армия содержала в себе (в сжатом виде) и черту милиционности. Функционирование регулярной армии не отрицает, а предполагает вовлечение в систему обороны страны широчайших народных масс (подготовку запасных и резервных контингентов)» [Шатило 2013: 96]. Наряду с регулярными вооруженными силами, армия комплектуется и на основе военной обязанности и добровольности. Таким образом налаживается механизм вовлечения широких масс населения в систему безопасности и обороны страны: «посредством милиционных форм военная организация непосредственно включается в процесс материального производства, выполнения актуальных социальных и культурных задач, стоящих перед страной» [Шатило 2013: 96].
В июле 1989 г. министр внутренних дел CССР В.В. Бакатин, выступая в Верховном Совете СССР, впервые обнародовал численность полувоенных сил, подчиненных МВД, – 1 млн 200 тыс. чел.1 Среди них милиция внутренних дел и сторожевые контингенты правоохранительных органов, а также внутренние войска. Кроме них, в стране действовали 50 тыс. общественных пунктов по охране правопорядка, и 14 млн граждан состояли в добровольных народных дружинах.
Далее последовали «лихие 90-е» – частичная потеря идентичности и духовно-нравственных ориентиров, существовавших в СССР, культурная унификация, попытка разрушения национальных традиций и т.д. Казачество в это время находилось в основном на дальних рубежах нашей Родины и устояло под натиском псевдоевропейских ценностей.
В нулевые годы в связи «с высокой коррупционной составляющей» в милицейских соединениях было решено в тестовом режиме организовать казачьи дозоры в Москве и Санкт-Петербурге. Ю.М. Лужков дал согласие на такой эксперимент, и казачьи дозоры несли службу на улицах обеих столиц. Конные казаки без огнестрельного и холодного оружия, действуя в основном превентивно, сумели завоевать симпатии жителей столиц. Опрос граждан показал, что они вдвое больше доверяли дозорам казаков нежели отрядам милиции. По итогам мониторинга была подготовлена реформа Министерства внутренних дел, в процессе которой рождаются новые формы милиционного строительства. Возрождающееся казачье движение – это один из ее этапов, и, хотя в современных казачьих общинах пока преобладают культурно-воспитательные функции, совершенно очевидно, что несложно будет учредить и полувоенные казачьи формирования. «Они были бы народной, добровольческой базой Народной гвардии, выполняющей как функции защиты конституционного строя, так и функции гражданской самообороны… Думаем, что территориально-милиционное строительство – это и есть основная функция и сущностное свойство казачества, хотя привлекаться к этому важному делу должны не только казаки» [Шатило 2013: 103].
Выводы. Хочется верить, что деятельность казачества не ограничится только территориально-милиционными функциями. Казачество – это сложное, многослойное и противоречивое явление. Поэтому необходимо в первую очередь обратиться к традиционным ценностям этого этноса. «Подлинная культура нации, ее подлинные интересы – это ее дух, история, культура, нравственность, поэтому в России главная задача – образование и воспитание народа» [Бессонов 2006]. Если мы говорим и пишем о непрерывном казачьем образовании, как и об образовании вообще, то в первую очередь следует обращаться к традиционным ценностям и ориентироваться на них. «Обращение к ценностям – главная отличительная черта нашего времени, важнейший принцип реализации государственной политики в сфере образования, при этом аксиологический подход становится преобладающим для объяснения различных явлений в педагогической теории и практике» [Горшкова, Герасимова 2015: 126]. Поэтому формирование ценностных ориентаций учащихся становится важнейшим условием модернизации образования. Особенно важно начать это формирование со школьной программы и продолжить в университетах.
Образование необходимо рассматривать как «социальное явление и процесс, как социальную систему и институт», который испытывает на себе влияние практически всех изменений, происходящих в данном государстве и человеческом обществе в целом. Рассматривая современное состояние высшего образования как в России, так и в других странах, следует применять социологический подход, включающий в себя педагогические, философские, экономические, психологические и другие важные характеристики. Практика показала, что простое копирование самых лучших образовательных систем без учета деятельностного, социокультурного, аксиологического, коммуникативного подходов приводит к необходимости менять ценностные ориентации, отступать от традиций, отказаться от учета личностной объективной и субъективной сторон. «Образование выполняет роль опоры, транс- лятора, передаточного звена культуры, оно охватывает всю деятельность человека по освоению культуры» [Ананишнев и др. 2021: 99]. Способность активного включения индивида в социальную среду зачастую принадлежит именно образованию. За счет этой способности возникает целостность личности и общества в форме появления нового культурного инварианта, возникшего в соответствии с новыми требованиями и условиями жизни общества. Так было после Октябрьской революции 1917 г., после окончания Великой Отечественной войны, после постперестроечных событий и т.д. Следовательно, образование выступает как «универсальная технология жизнедеятельности человека» и как значимый элемент образа жизни людей.
Новые условия жизни требуют новых технологий, способных определить вектор движения молодежи, пополнить их ценностный потенциал и не допустить нравственной деградации. Казачья молодежь находится в более выгодной позиции, т.к. воспитание казаков (по большей части) все же опирается на традиции семьи и общины, а также на историю и религию и многие другие компоненты культуры, составляющие ядро ценностных ориентиров, важнейшим из которых является чувство патриотизма.
Выявление ценностно-смысловых установок гражданской идентичности россиян как единой нации, а также учет и сохранение культуры и образования отдельных этносов даст возможность выявить эффективные методы и формы управления процессом гражданско-патриотического воспитания, потенциал которого оставался какое-то время не до конца востребованным. Осмысление россиян как части европейского целого привели к частичной потере культурной парадигмы, изменению концепции образования, т.к. не учитывалась позитивная гражданская идентичность этносов, а попытки свести патриотические ценности к единым шаблонам привели к кризису гражданской и культурной идентичности населения России, рассмотрению патриотической риторики как националистической и космополитической.
Однако нельзя не отметить, что социальные сообщества, объединенные общей патриотической идеей и концептом интернационализма, частично утрачивают идею личностных смыслов и ценностей, сосредоточившись на общегосударственных представлениях и интересах.
Русский философ И.А. Ильин активно протестовал против уничтожения национального своеобразия. Философ не без оснований считал, что проблема заключается в искусственно навязываемом равноправии через уничтожение собственной уникальности: «это химера, всеразрушительная, противокуль-турная и безбожная затея есть порождение рассудочной души, злой и завистливой, – все равно, стремится ли эта химера воинственно подмять все народы под один народ или растворить все национальные культуры в бесцветности и безвидности всесмешения» [Ильин 2017: 264].
Нельзя забывать, что Советская Россия в пылу революционной борьбы именно так и хотела поступить с казаками, свести этот этнос к единому знаменателю с другими народами России через «расказачивание», т.е. потерю идентичности и приобщение к идеям революционной борьбы и построения Советского государства.
Принципиально иной точки зрения придерживался другой представитель русской зарубежной философии – Н.А. Бердяев Он полагал, что разделение народов в виде политически навязываемого государством национализма (философ называл его цезаризмом) приведет лишь к войнам, тоталитаризму и раздорам между народами. И национализм, и интернационализм Бердяев считал заблуждениями, связанными между собой. Его собственное видение проблемы было следующим: «Нужно преодолеть идею суверенитета национального государства и стремиться к сверхнациональной организации народов, сохраняющих свои индивидуальные культуры, свое единственное лицо в мире. Это предполагает перевоспитание человеческих обществ, переоценку ценностей, духовное перерождение» [Бердяев 1938: 237]. Современные документы учли и эту несколько спорную идею философа. Декларация о принципах международного права отражает воззрения о самостоятельности каждого народа в решении своего независимого и культурного существования.
В данной ситуации образование является решающим фактором, определяющим эффективную деятельность общества, его развитие, будущую перспективу в решении общенациональных и общечеловеческих проблем.
Следует приветствовать создание в школах кадетских и казачьих корпусов, открытие в университетах специфических кафедр и исследовательских центров: например, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) имеет кафедру культуры казачества, кафедру теории и практики непрерывного казачьего образования. Все это дает основания полагать, что самый сложный этап исторической самоидентификации успешно преодолен, и единое культурное пространство России формируется с учетом национальной самобытности и взаимообогащения национальных культур.
Список литературы Размышления о судьбах казачества и внедрении инноваций в процесс непрерывного казачьего образования (историко-антропологический аспект)
- Авакова Э.Б., Гончаренко Л.Н. 2019. Историческая самоидентификация России: этапы становления и современные функции. - Локус: люди, общество, культуры и смыслы. № 2. С. 132-147.
- Ананишнев В.М., Вакарев Е.С., Осмоловская С.М, Ткаченко А.В. 2021. Цели и ценности современного высшего образования: философско-соци-ологический подход. - Вестник МГПУ. Сер. Философские науки. № 4(40). С. 96-107. https://doi.Org/10.25688/2078-9238.2021.40.4.09.
- Бердяев Н.А. 1938. О современном национализме. - Русские записки. № 3. С. 232-238.
- Бессонов Б.Н. 2006. Гуманизм и духовное развитие общества. М.: Изд-во РАГС. 276 с.
- Горшкова Е.Б. Герасимова Т.Н. 2015. Теоретические основы формирования ценностных ориентаций учащихся. - Мир образования - образование в мире. № 3(59 ). С. 126-132.
- Дробижева Д.М., Рыжкова С.В. 2015. Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России. - Полис. Политические исследования. № 5. С. 9-24. М^: //doi.org/1017976/jpps/2015.05/03.
- Ильин И.А. 1915. Духовный смысл войны. М.: Тип. Т-ва Сытина И.Д. 48 с.
- Ильин И.А. 1999. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 9-10 (сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы). М.: Русская книга. 512 с.
- Ильин И.А. 2017. Наши задачи. М.: Алгоритм. 464 с.
- Казачество - щит Отечества. 2005. М.: ИД Тончу; СПб: Техническая книга. 335 с.
- Меньшиков М.О. 1911. Письма к ближним. СПб. 550 с.
- Репетенко А.Л. 2023. Проблема преемственности традиций в процессе становления армии нового типа - Красной армии. - Вестник МГПУ. Сер. Философские науки. № 1(45). С. 101-113. DOI: 10.25688/2078-9238.2023. 45.1.8.
- Соловьев В.С. 2018. Оправдание добра. Нравственная философия. М.: Юрайт. 468 с.
- Токарева Е.А. 2021. Вопросы культурной и гражданской идентичности в современном историческом образовании. - Вестник МГПУ. Сер. Исторические науки. №3(43). С. 109-120.
- Фрунзе М.В. 1951. Избранные произведения. М.: Воениздат. 584 с.
- Шатило И.С. 2013. Отечественная история и концептология казачества: лекции, очерки, новеллы. М.: Спутник+. 121 с.