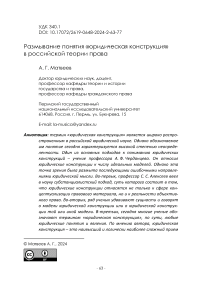Размывание понятия «юридическая конструкция» в российской теории права
Автор: Матвеев А. Г.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Термин «юридическая конструкция» является широко распространенным в российской юридической науке. Однако обозначаемое им понятие сегодня характеризуется высокой степенью неопределенности. Один из основных подходов к пониманию юридических конструкций - учение профессора А. Ф. Черданцева. Он относил юридические конструкции к числу идеальных моделей. Однако эта точка зрения была размыта последующими ошибочными направлениями юридической мысли. Во-первых, профессор С. С. Алексеев ввел в науку субстанциалистский подход, суть которого состоит в том, что юридические конструкции относятся не только к сфере концептуализации правового материала, но и к реальности объективного права. Во-вторых, ряд ученых удваивают сущности и говорят о модели юридической конструкции или о юридической конструкции той или иной модели. В-третьих, сегодня многие ученые обозначают термином «юридическая конструкция», по сути, любые юридические понятия и явления. По мнению автора, юридическая конструкция - это наивысший и логически наиболее сложный прием формально-догматического исследования права, представляющий собой абстрактную идеальную модель. Эта модель отражает, конституирует или интерпретирует взаимосвязь юридических явлений и/или их элементов либо определяет место этих явлений в правовой системе.
Юридическая конструкция, модель, формально-догматическая юриспруденция, правоотношение, обобщение, классификация
Короткий адрес: https://sciup.org/147244115
IDR: 147244115 | УДК: 340.1 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-2-63-77
Текст научной статьи Размывание понятия «юридическая конструкция» в российской теории права
И зучение российской научной литературы, посвященной проблеме юри‐ дических конструкций, вызывает двойственное впечатление. С одной стороны, бесчисленное количество публикаций о юридических конструкциях и уверенность, с которой их авторы оперируют этим понятием, дают основа‐ ние говорить, что выражение «юридическая конструкция» принимается как общеизвестный термин, а содержание обозначаемого им понятия очевидно и не требует специальных разъяснений. С другой стороны, практически никакой конвенциональности в использовании термина «юридическая конструкция» и тем более определенности в содержании обозначаемого им понятия сегодня не наблюдается. В. П. Реутов точно заметил, что «вероятно, этим термином зачастую обозначаются разные, пусть и связанные между собой, явления»1.
Одним из негативных аспектов современных исследований, посвящен‐ ных юридическим конструкциям, видится излишнее цитирование и рефери‐ рование литературы по данной проблематике, которое зачастую подменяет собой собственно научный поиск и обоснование выводов. Так, в своей док‐ торской диссертации С. Н. Болдырев на тридцати пяти страницах проводит обзор имеющихся точек зрения и, не предлагая аргументов в пользу отстаи‐ ваемой им позиции и не критикуя другие подходы, в качестве одного из вы‐ носимых на защиту положений выдвигает тезис, согласно которому юриди‐ ческая конструкция «представляет собой средство юридической техники, которое образует типизированную идеальную, совершенную модель, шаб‐ лон, стандарт, типовую схему или типовой образец, отражающий сложное структурное построение урегулированных правом своеобразных разновид‐ ностей правоотношений (юридических фактов, их элементов и т.д.)»2. Вряд ли в данном случае можно говорить о какой‐то концептуальной новизне, ес‐ ли сравнить это определение со сформулированной в 1972 году концепцией А. Ф. Черданцева, согласно которой юридическая конструкция «представляет собой идеальную модель, отражающую сложное структурное строение уре‐ гулированных правом общественных отношений, юридических фактов или их элементов... Как идеальная модель она служит формой отражения действи‐ тельности»3. Это определение можно признать основой для современной
МАТВЕЕВ А. Г. ____________________________________________________________________ теоретико‐правовой мысли о природе юридических конструкций. Например, в учебнике «Юридическая техника» М. Л. Давыдова формулирует следую‐ щую дефиницию: « Юридическая конструкция – это разработанная док‐ триной и принятая юридическим научным сообществом идеальная модель, позволяющая теоретически осмыслить, нормативно закрепить, обнаружить в правовом тексте и в реальных юридических отношениях закономерную, последовательную, логичную взаимосвязь структурных элементов различных правовых явлений»4.
В свою очередь, подход А. Ф. Черданцева методологически основан на учении Н. М. Коркунова, что убедительно показывает Д. Е. Пономарев: «Этим объясняется то, что автор раскрывает понятие юридической конструк‐ ции, фактически воспроизводя аргументы, изначально выдвинутые в пользу превращения правоведения в классическую науку, но уже не вступая в мето‐ дологическую полемику с конкурирующей догматикой (как это делал Н. М. Коркунов, возражая Р. Йерингу), а констатируя это положение как есте‐ ственное, единственно возможное»5. Как известно, Н. М. Коркунов выделял следующие приемы научного изучения права: анализ, конструкцию, класси‐ фикацию: «Все эти приемы: анализ, конструкция и классификация – суть об‐ щие приемы научного исследования, отнюдь не составляющие исключитель‐ ной принадлежности только науки права»6. Под юридической конструкцией Н. М. Коркунов понимал общий прием научного обобщения, «приноровлен‐ ное для целей юридического исследования идеальное построение»7.
Обратим внимание на то, что в современной теории права понимание юридической конструкции как идеальной модели распадается на несколько подходов. Чтобы не превращать эту статью в очередной обзор точек зрения, воспользуемся обобщением Д. Е. Пономарева и согласимся с ним в том, что «в современном отечественном правоведении сложилась ситуация множест‐ венности пониманий такого объекта. В первом приближении эта множест‐ венность может быть дифференцирована следующим образом: инструмен‐ талистское понимание, гносеологическое понимание, юридико‐техническое
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ понимание, методологическое понимание, субстанциалистское понимание»8. Важно подчеркнуть, что общим знаменателем для первых четырех подходов является то, что юридические конструкции относятся к реальности знаний о праве как изучаемом объекте, а не к реальности самого объективного права. Примечательно также то, что в своем обзоре точек зрения А. Ф. Черданцев в 1972 году не называл еще субстанциалистского подхода: «Термин “юриди‐ ческая конструкция” нередко встречается в нашей литературе, но применяет‐ ся он далеко не однозначно. Одни авторы отождествляют юридическую кон‐ струкцию с логической дедукцией, другие – с грамматической конструкцией, с определением понятий, третьи – с теоретическими положениями, четвер‐ тые – со способом регулирования общественных отношений и т.п.»9
Именно с признанием и широким цитированием субстанциалистского, или онтологического, подхода, на мой взгляд, следует прежде всего связы‐ вать размывание понятия «юридическая конструкция» в современной рос‐ сийской юриспруденции. Суть этого подхода состоит в том, что юридические конструкции принадлежат не только к сфере приемов концептуализации правового материала, юридической техники и юридической науки, но и к ре‐ альности объективного права. Представляется, что не совсем удачную попыт‐ ку объединить эти принципиально разные подходы предпринял С. Н. Бол‐ дырев: «Юридическая конструкция представляет собой такое средство юри‐ дической техники, посредством которого осуществляется упорядочивание нормативного массива. Юридические конструкции – это объективное явле‐ ние правовой действительности и определяются структурными особенностя‐ ми правовых норм»10.
Самым известным сторонником субстанциалистской точки зрения на юридические конструкции является профессор С. С. Алексеев – один из авторитетнейших представителей советской и постсоветской юридической науки. В своей работе «Восхождение к праву» С. С. Алексеев предпринял по‐ пытку придать юридическим конструкциям статус субстанциальных единиц права. Например, он утверждает, что «более подробный анализ показывает, что есть еще один, с содержательной стороны главный, наиболее развитой, можно сказать совершенный, слой правовой материи, о котором ранее уже не раз упоминалось. Этот слой представляет собой нечто более высокое и значи‐
МАТВЕЕВ А. Г. ____________________________________________________________________ мое, чем просто связи между “молекулами” правовой материи, – юридические конструкции , которые образуют основное содержание “тела” более или ме‐ нее юридически развитой системы права»11.
Объясняя исходные пункты своих рассуждений, ученый исходит из двойственной природы юридических конструкций. С одной стороны, послед‐ ние представляют собой такой уровень правовой материи, когда соответст‐ вующие структуры сами по себе обладают качеством правовой нормативности, притом нормативности высокого порядка: «Именно юридические конструкции образуют центральное звено (основу, стержень) материи права, достигшей необходимого (для реализации своих функций) уровня развития, совершен‐ ства»12. Здесь С. С. Алексеев соглашается с позицией Н. Н. Тарасова, который, разделяя точку зрения автора «Восхождения к праву», в свою очередь по‐ лагает, что следует различать нормативную юридическую конструкцию как элемент собственного содержания позитивного права и юридическую конст‐ рукцию как единицу юридического мышления: «Есть достаточные основания считать, – пишет Н. Н. Тарасов, – что юридические конструкции работают в правовом регулировании независимо от их отражения теоретическим соз‐ нанием»13. С другой стороны, по мнению С. С. Алексеева, юридические кон‐ струкции являются результатом типизации в праве14. Здесь он сохраняет пре‐ емственность по отношению к своим работам 1960–70‐х годов, где юриди‐ ческие конструкции рассматривались как одно из средств юридической техники, как специфическое построение нормативного материала, соот‐ ветствующее определенному типу или виду сложившихся правоотношений, юридических фактов, их связи между собой15.
Заметим, что аргументация субстанциалистского подхода осуществ‐ ляется С. С. Алексеевым преимущественно при помощи ряда метафор, при‐ влекаемых в общую теорию права. Так, он отмечает: «Отсюда следует, что юридические конструкции с позиций современной науки предстают в качест‐ ве такого “сгустка” или “концентрата” юридической материи, который олице‐ творяет ее важнейшие, наиболее значимые черты и особенности, в том числе те, которые выражают математически строгие соотношения в праве (“мате‐ матику в праве в самом точном значении”), а также особенности права как явления Разума»16. Ученый оперирует таким значимым для его концепции понятием, как правовая материя. Последняя понимается как весь спектр юридического инструментария17, как совокупность всех правовых средств18. Представляется, что такое движение в сторону от аналитической юриспру‐ денции при нахождении мыслителя в рамках этатистского правопонимания, стирание границ между действительностью (правом) и концепцией этой дей‐ ствительности (в том числе юридическими конструкциями), растворение по‐ следних в едином концепте юридической материи и юридических средств не привносят в общую теорию права логичности, достоверности, объективности и последовательности.
Говоря о роли метафор в юридической науке, мы разделяем точку зре‐ ния А. Ф. Черданцева, который полагает, что метафорические выражения (а к ним он относит и правовую материю) не очень желательны в юридиче‐ ской науке, поскольку с помощью метафор не достигаются точность и адек‐ ватность научной мысли и поскольку принятие метафоры за истину ведет к научному заблуждению19. В. М. Баранов и Н. А. Власенко обоснованно утвер‐ ждают, что увлеченность юридическими метафорами нередко снижает каче‐ ство доктринальных исследований: «В науке права также можно встретить удачные и не вполне удачные метафоры. Однако когда метафорическое выражение начинают характеризовать как понятие, да еще базовое в юрис‐ пруденции, получается, мягко скажем, не только не убедительно, но и где‐то комично»20.
Еще одним аспектом размывания понятия «юридическая конструкция» стало излишнее одновременное использование терминов «конструкция» и «модель». Слово «модель» происходит от латинского “modulus” (мера, образ, способ). В науке этот термин стал использоваться в двух совершенно разных значениях: 1) модель как теория; 2) модель как объект‐заместитель изучае‐ мого объекта. В первом смысле под моделью можно понимать интерпрета‐ цию одной математической теории с помощью другой21. В свою очередь, модель как объект‐заместитель – это либо образ изучаемого объекта, либо какой‐то другой материальный объект, сходный с изучаемым объектом неко‐ торыми свойствами.
Если юридическая конструкция – это идеальная модель, то обоснован‐ но ли говорить о модели той или иной юридической конструкции или о кон‐ струкции той или иной модели, как это нередко делается в научных публи‐ кациях? Так, Н. В. Кулешова исследует развитие юридической конструкции российской модели местного самоуправления22, а В. Н. Иванова – роль модели юридической конструкции налога23. При этом В. Н. Иванова сначала верно под юридической конструкцией налога понимает определенную модель24, однако далее она говорит уже об элементах юридической модели конструк‐ ции налога25. То есть в данном случае, на мой взгляд, происходит не совсем оправданное удвоение сущностей: конструкция налога – это его идеальная структурированная модель, а модель конструкции – это модель такой модели.
Понятия юридической конструкции и модели довольно точно соотнес С. Ю. Морозов: «Только ту правовую модель, которая не изменяется в тече‐ ние достаточно продолжительного времени (десятилетий, столетий), можно считать юридической конструкцией, которая представляет каркас, скелет пра‐ ва и его системы»26. Думается, что в быстро меняющемся мире некоторые юридические конструкции как приемы обобщения, построения абстракций формируются гораздо быстрее, чем в течение десятилетий. Например, сего‐ дня мы являемся свидетелями того, как научное сообщество разрабаты‐ вает юридические конструкции цифровых прав, криптовалют, искусственного интеллекта.
Другим проблемным аспектом в понимании юридических конструкций стала тенденция обозначать этим термином, по сути, любые юридические понятия и явления. Такой подход, по сравнению с учением Н. М. Коркунова, представляется шагом назад. Проиллюстрируем его несколькими примера‐ ми: «Юридическая конструкция силы в полицейском законодательстве Рос‐ сии»27, «Юридические конструкции смешанных ведомственных правовых актов»28, «Правовые дефиниции как юридические конструкции»29. Интерес вызывает также Информация Конституционного Суда РФ «Методологические аспекты конституционного контроля», подготовленная в 2021 году30. В этом документе верно указано, что в конституционной интерпретации востребо‐ ван логический метод (силлогизмы, дедуктивные модели и т.д.) и что он предполагает обращение к понятиям, конструкциям и иным категориям юридического знания (п. 2.3.2). Однако далее к числу ординарных юридиче‐ ских понятий отнесены такие правовые конструкции, как механизм правово‐ го регулирования и правоотношение. Приведенные примеры позволяют ут‐ верждать, что юридические конструкции как абстракции более высокого порядка не всегда четко отграничиваются от таких юридических понятий, ко‐ торые не обладают достаточным набором признаков, чтобы считаться юри‐ дическими конструкциями.
Итак, если значение термина «юридическая конструкция» в россий‐ ском правоведении сегодня настолько размыто, что научная коммуникация по этому вопросу стала представлять собой проблему и на роль юридических конструкций претендуют, по сути, любые юридические явления и понятия, логично задаться вопросом: можно ли вообще отказаться от этого термина?
В сравнительно‐правовом и историческом планах термин «юриди‐ ческая конструкция» не является универсальным и общепризнанным, что отнюдь не означает, что учения правоведов или даже юридическое знание целых правовых систем, в которых не используется этот термин, не являются научными или являются менее научными, достоверными и полезными, чем современная юридическая наука, тонущая в юридических конструкциях всего и вся. Проиллюстрируем этот тезис рядом примеров и приведем широко из‐ вестные слова К. Цвайгерта и Х. Кётца, хорошо передающие специфику юри‐ дического знания в двух ведущих правовых семьях: «Для германской и ро‐
МАТВЕЕВ А. Г. ____________________________________________________________________ манской правовых семей характерно стремление к созданию абстрактных правовых норм, к охвату всей сферы права хорошо структурированной сис‐ темой и, наконец, просто к разработке методов для построения юридических конструкций. <...> В английском общем праве традиция развивалась посте‐ пенно путем накопления опыта судебных решений. <...> Таким образом, нау‐ ка общего права по происхождению – судебная, а континентального – схола‐ стическая. <...> На континенте юристы мыслят абстрактно, понятиями правовых институтов, в США и Англии – конкретно, “прецедентно”, с точки зрения отношений сторон, их прав и обязанностей. <...> На континенте опе‐ рируют понятиями, которые начинают часто жить собственной жизнью, что таит в себе опасность для тех, кто их применяет. А в Англии и США всему это‐ му предпочитают наглядные представления о предмете и т.д.»31 И действи‐ тельно, такие авторитетные английские и американские ученые, как Г. Харт, Р. Дворкин, Р. Познер, не оперируют понятием «юридическая конструкция», что не лишает их исследования статуса высокой науки права.
Но и в рамках романо‐германской правовой семьи далеко не все уче‐ ные рассматривают приемы абстракции и концептуализации в юриспруден‐ ции через призму юридических конструкций. В частности, в такой известной российскому читателю книге, как «Общая теория права» Ж.‐Л. Бержеля, ис‐ пользуется понятие «концепты», под которыми автор понимает общие и аб‐ страктные ментальные репрезентации объектов. Концепты необходимы для понимания юридических феноменов и отражения их на уровне позитивного права. Они касаются лиц, предметов, фактов, актов, прав, технических про‐ цедур, институтов32. Сравним этот подход с процитированным выше опреде‐ лением юридической конструкции А. Ф. Черданцева. Представляется, что со‐ держания этих понятий очень близки. Однако французский ученый идет дальше российского, так как показывает, что концепт необязательно должен быть отражением, моделью действительности позитивного права: «Юрист, занимающийся толкованием закона, иногда вынужден сам создавать кон‐ цепты, предназначенные для познания и систематического анализа права; такие концепты происходят не из формальных источников права и поэтому не должны использоваться в обязательном порядке, даже если становятся
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ общеупотребительными»33. Здесь, как представляется, прав В. П. Реутов, пи‐ савший, что «теоретическая конструкция, являясь итогом научных изысканий, может быть оторвана от реальности, произвольна, отражать субъективное отношение исследователя»34.
Примером такого рода изначально теоретического инструмента позна‐ ния, на мой взгляд, является концепт или юридическая конструкция правоот‐ ношения. Конструкция правоотношения, созданная германской юридической наукой XIX века, представляет собой инструмент познания и систематическо‐ го анализа юридической действительности, под которой в данном случае по‐ нимаются положения позитивного права. Заметим, что А. Ф. Черданцев не рассматривал понятие правоотношения как юридическую конструкцию, так как в нем не отражается системно‐структурное строение исследуемого явле‐ ния35. Правоотношение приведено здесь в качестве примера специально, так сказать, в целях обострения дискуссии. Дело в том, что это понятие хорошо иллюстрирует, насколько зачастую тесно переплетены реальность права и научное знание о праве. Вся история дискуссий о природе правоотношения в отечественной, советской и российской, юридической науке показывает, что одни ученые понимали под правоотношением само общественное отноше‐ ние, урегулированное нормой права, другие – юридическую форму общест‐ венного отношения, а третьи – научную абстракцию, способ и инструмент познания и осмысления права. Глубину проникновения юридической конструк‐ ции правоотношения в право подтверждает статья 12 Гражданского кодекса РФ36, устанавливающая такой способ защиты, как прекращение или изменение правоотношения. Однако признается ли такой способ защиты в правопоряд‐ ках, не испытавших влияние германской юридической догматики?
Состоявшееся в российском правоведении размывание понятия «юри‐ дическая конструкция» не означает, что в качестве радикальной реакции на это обстоятельство юридическому сообществу стоит отказаться от него. Со‐ временная юридическая наука вряд ли возможна и эффективна как без пре‐ емственности в использовании понятийно‐категориального аппарата, так и без методов абстрагирования и концептуализации. В то же время здесь, как
МАТВЕЕВ А. Г. ____________________________________________________________________ представляется, нужно найти золотую середину, избегая и крайнего эмпи‐ ризма, и крайнего формализма и концептуализма. Под крайним эмпиризмом понимается отрицание любых юридических абстракций и следование прин‐ ципу, что правопорядок – это совокупность конкретных и уникальных случа‐ ев, которые не следует обобщать. Крайний формализм, на мой взгляд, пред‐ ставляет собой сведение права к такой логической конструкции, которая оторвана от действующего правового регулирования и реальной правопри‐ менительной практики. В результате такая радикальная форма юридического сциентизма вряд ли будет пригодна для эффективного изучения, познания и совершенствования правовой системы.
В заключение попробуем определить место юридических конструкций среди приемов формально‐догматического исследования и обратимся к клас‐ сикам юридической науки. С точки зрения С. А. Муромцева, в догматиче‐ ское исследование входят следующие процессы: 1) описание; 2) обобщение; 3) определение; 4) классификация и основанное на ней расположение юри‐ дических правил, принципов и определений в систему как высший процесс догмы37. Н. М. Коркунов к приемам научной обработки права относил ана‐ лиз, конструкцию и классификацию38. Представляется, что это различие во взглядах не является фундаментальным. Например, Г. Ф. Шершеневич пояс‐ нял: «Научно классифицированное право дает почву для приема, который называется юридическою конструкциею. Под этим именем следует понимать научный процесс, который начинается с разложения данного института на составные его элементы и затем на этом основании определяет по сущест‐ венным признакам место, которое ему принадлежит в системе права»39.
Еще бо́льшую ясность мы получим, вспомнив тезис Р. фон Иеринга о том, что юридические конструкции относятся к сфере высшей юриспруден‐ ции. Как известно, деятельность низшей юриспруденции ученый определял через толкование, а предметом ее считал правовые положения и принципы. Напротив, предметом высшей юриспруденции, по мнению Иеринга, являют‐ ся правовые институты (логические индивидуальности или юридические тела) и понятия40. В другой своей работе Р. фон Иеринг писал, что «противополож‐ ность высшей и низшей юриспруденции определяется противоположностью юридического понятия и юридического правила и переходом права из низше‐ го агрегатного состояния в высшее, переходом, совершающимся с помощью юридической конструкции, сообщающей данному сырому материалу форму понятий»41. Заметим, что в учении Р. фон Иеринга юридическая конструкция – это единственный из трех основных приемов юридической техники, относя‐ щийся к высшей юриспруденции. Два других подготовительных приема – юридический анализ и логическая концентрация – прямо не отнесены уче‐ ным к указанной сфере42.
Таким образом, на мой взгляд, юридическая конструкция – это наивыс‐ ший и логически наиболее сложный прием формально‐догматического ис‐ следования права, представляющий собой абстрактную идеальную модель, которая отражает, конституирует или интерпретирует взаимосвязь юридиче‐ ских явлений и/или их элементов либо определяет место данных явлений в правовой системе.
Список литературы Размывание понятия «юридическая конструкция» в российской теории права
- Алексеев С. С. Восхождение к праву: поиски и решения // Собрание сочинений: в 10 т. [+ справоч. том] / примеч. С. А. Степанова, Н. П. Зариповой. Т. 6. М.: Статут, 2010.
- Алексеев С. С. Проблемы теории права: курс лекций // Собрание сочинений: в 10 т. [+ справоч. том] / примеч. С. А. Степанова, Н. П. Зариповой. Т. 3. М.: Статут, 2010.
- Арзамасов Ю. Г. Юридические конструкции смешанных ведомственных правовых актов // Юридическая техника. 2013. № 7 (ч. 2). С. 107–111.
- Баранов В. М., Власенко Н. А. Метафоры в праве: методологическая опасность и перспективы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 1. С. 11–19.
- Бержель Ж.‐Л. Общая теория права / под общ. ред. В. И. Даниленко; пер. с фр. М.: Изд. дом NOTA BENE, 2000.
- Болдырев С. Н. Юридическая техника: теоретико‐правовой анализ: дис. ... д‐ра юрид. наук. Ростов‐н/Д., 2014.
- Бурбаки Н. Очерки по истории математики / под ред. и с предисл. К. А. Рыбникова; пер. с фр. И. Г. Башмаковой. М.: Иностр. лит., 1963.
- Ватлецов С. Г. Правовые дефиниции как юридические конструкции // Юридическая техника. 2013. № 7 (ч. 2). С. 160–163.
- Иванова В. Н. О роли модели юридической конструкции налога в создании методики формирования законодательства о налогах // Современное общество и право. 2011. № 2. С. 93–97.
- Иеринг Р. фон. Задача современной юриспруденции. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=1561.
- Иеринг Р. фон. Юридическая техника // Избранные труды: в 2 т. Т. II. СПб.: Изд‐во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006. С. 317–384.
- Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / сост., автор вступ. ст., коммент. А. Н. Медушевский. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.
- Кулешова Н. В. Тенденции и перспективы развития юридической конструкции российской модели местного самоуправления в системе единой публичной власти // Правовая мысль. 2021. № 2. С. 46–51.
- Морозов С. Ю. Методологическая роль юридических конструкций в цивилистических исследованиях // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2019. № 1. С. 312–336.
- Муромцев С. А. Что такое догма права? М.: Тип. А. И. Мамонтова и Ко., 1885.
- Пономарев Д. Е. Генезис и сущность юридической конструкции: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005.
- Пономарев Д. Е. Юридическое конструирование и методологическая идентичность правоведения: связь проблематики в пространстве юридической мысли // Российский юридический журнал. 2020. № 5. С. 116–134.
- Реутов В. П. О понятии правовой (юридической) конструкции // Исследования по общей теории права: сб. науч. тр. / Перм. гос. нац. исслед. ун‐т. Пермь, 2015.
- Реутов В. П. О функциях и структуре юридических конструкций // Исследования по общей теории права: сб. науч. тр. / Перм. гос. нац. исслед. ун‐т. Пермь, 2015.
- Тарасов Н. Н. Юридические конструкции: теоретическое представление и методологические основания исследования // Юридическая техника. 2013. № 7 (ч. 2). С. 18–24.
- Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. Т. I: Основы / пер. с нем. М.: Междунар. отношения, 2000.
- Черданцев А. Ф. Логико‐языковые феномены в юриспруденции: моногр. М.: Норма: ИНФРА‐М, 2012.
- Черданцев А. Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и практике // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1972. № 3. С. 12–19.
- Черников В. В. Юридическая конструкция силы в полицейском законодательстве России // Юридическая техника. 2013. № 7 (ч. 2). С. 39–48.
- Шершеневич Г. Ф. Избранное: в 6 т. Т. 4 включая Общую теорию права / сост. П. В. Крашенинников. М.: Статут, 2016.
- Юридическая техника: учеб. / под ред. В. Баранова. М.: Проспект, 2021.