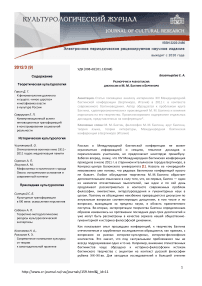Разноречие и разногласия: дискуссии о М. М. Бахтине в Бертиноро
Автор: Богатырва Елена Анатольевна
Журнал: Культурологический журнал @cr-journal
Рубрика: Научная жизнь
Статья в выпуске: 3 (9), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу материалов XIV Международной бахтинской конференции (Бертиноро, Италия) в 2011 г. в контексте современного бахтиноведения. Автор обращается к проблемам круга Бахтина, «девтероканонических» произведений М.М.Бахтина и влияния марксизма на его творчество. Проанализировано содержание отдельных докладов, представленных на конференции.
М.м.бахтин, философия м.м.бахтина, круг бахтина, теория языка, теория литературы, международная бахтинская конференция в бертиноро (италия)
Короткий адрес: https://sciup.org/170174276
IDR: 170174276 | УДК: [008+82]:01.13(048)
Текст научной статьи Разноречие и разногласия: дискуссии о М. М. Бахтине в Бертиноро
Рассказ о Международной бахтинской конференции не может ограничиться информацией о секциях, тематике докладов и перечислением участников, но предполагает некоторую преамбулу. Забегая вперед, скажу, что XIV Международная бахтинская конференция проходила в июле 2011 г. в старинном итальянском городке Бертиноро, в Конгресс-центре Болонского университета [1] . Назвать ее «очередной» невозможно уже потому, что рядовых бахтинских конференций просто не бывает. Любое обсуждение творчества М. М. Бахтина обрастает дополнительными смыслами в силу того, что, во-первых, Бахтин — один из немногих отечественных мыслителей, чьи идеи и по сей день продолжают рассматриваться в контексте современных проблем философии, лингвистики, литературоведения и гуманитарных наук в целом. Поэтому их обсуждение неизбежно превращается в дискуссии по актуальным вопросам соответствующих дисциплин, в том числе и по вопросам, выходящим за пределы науки, в область нравственного поступка. Во-вторых, интерпретации творчества Бахтина определенным образом изменялись на протяжении последних двух-трех десятилетий и уже могут быть рассмотрены в качестве зеркала нашей общественногуманитарной и историко-философской динамики.
Как показывает опыт прошедших конференций, к творчеству Бахтина отечественные и зарубежные исследователи обращаются, как правило, с вопросами из разных историко-культурных, историко-философских контекстов. Это значит, что под «актуальными проблемами» мы не всегда подразумеваем одно и то же. Например, внимание отечественных бахтинистов чаще обращено к историко-философским истокам бахтинского творчества с акцентом на контекст русской философии рубежа XIX–XX вв. Для западных исследователей в большей степени
Гуманитарные исследования
Штейнер Е.С.
Левизна художественная и политическая в детской книге
Европы и Америки 1920–30-х гг. (Часть 2)
К 80-летию Российского института культурологии
Visual studies: теоретические исследования в Санкт-Петербургском отделении Российского института культурологии
Доклады, прочитанные на юбилейной сессии
Ученого совета Российского института культурологии
Чикишева А. С.
Феномен ностальгии и его проблематизация в современном культурологическом знании
Васильев А. Г.
Vita memoriae, сasus Poloniae
Рабинович В. Л.
«Изгой нынчести»:
Маяковский и Че Гевара
Рецензии
Фадеева И. Е.
Текстуальные революции как феномен российской цивилизации: от геопоэтики к геосемиотике
Рейфман Б. В.
Путешествие как ойкумена, ищущая свою границу: по поводу книги «Путешествие как феномен культуры»
Научная жизнь
Богатырёва Е. А.
Разноречие и разногласия: дискуссии о М. М. Бахтине в Бертиноро
Гончарик А. А .
Международный культурный форум 2012 в Ульяновске: итоги и перспективы
характерно обсуждение идей Бахтина в философско-социологическом контексте; идеи «круга Бахтина» сопоставляют с творчеством А. Грамши, В. Беньямина, Д. Лукача и других мыслителей, а также с актуальными течениями в современных гуманитарных науках. Деление это, конечно, достаточно условно. Вопросы методологического потенциала бахтинских идей и возможности их проецирования на современные гуманитарные науки объединяют почти всех, но опять-таки с поправкой на разные историко-культурные и историко-философские контексты. Перечисленные темы звучали и в Бертиноро.
Конференция 2011 года подтвердила наметившийся некоторое время назад поворот в бахтинских исследованиях, имеющий отношение не только к особенностям современной рецепции произведений Бахтина, но и к диалогу между отечественными и зарубежными бахтинистами, а также к состоянию дел в современных гуманитарных науках. Так, прошедшая конференция продемонстрировала определенное смещение интереса исследователей к рассмотрению работ «круга Бахтина» и отдельных его представителей как самостоятельных авторов, прошедших собственную идейную эволюцию. Эта тема, как известно, является одной из самых дискуссионных в бахтинистике. «Круг Бахтина» оказался в фокусе все возрастающего внимания со стороны исследователей, на мой взгляд, не только как факт интеллектуальной истории, но скорее вследствие актуализации произведений, за которыми в бахтинистике закрепилось название «девтероканонических» [2] , и без которых невозможно представить последующие труды Бахтина в области философии языка. Активизация обращений к «спорным» работам вызвала новую волну попыток переосмысления их места в творчестве Бахтина, а также вне его. Иллюстрацией и проявлением этой последней установки могут служить, например, доклады, посвященные творчеству В. Н. Волошинова.
Тема интеллектуальной истории присутствовала во многих докладах и дискуссиях. В качестве следующей тенденции нужно отметить обращение к истокам бахтинской философии и стремление обнаружить неизвестные ранее страницы, свидетельствующие о становлении ученого, проясняющие и уточняющие его позиции. В итоге, все перечисленные тенденции сфокусировались в нескольких точках — на обсуждении методологического потенциала бахтинских (включая «круг Бахтина») идей, экспликации методологических следствий его философско-лингвистической теории и на возможностях их использования применительно к современным гуманитарным наукам. Причем обсуждения явно или неявно опирались на определенный контекст бахтинских исследований, без обращения к которому характер дискуссий будет не вполне понятен.
О контексте
Дело в том, что всемирную известность М. М. Бахтину принесли, в первую очередь, его так называемые поздние работы по философии языка, которые оказались созвучны поискам гуманитарных наук в мировом контексте. В 1963 г. была переиздана книга Бахтина о Достоевском [3], в 1965 г. — напечатана работа «Творчество Франсуа Рабле...» [4], в 1975 г. выходят «Слово в романе», «Формы времени и хронотопа в романе» и др. [5]. Поэтому на 1960-70-е гг. приходится пик популярности терминов «полифония» и «карнавал», в западном литературоведении возникает понятие «интертекстуальность» и связанная с ним отрасль исследований и т.д. Нет необходимости перечислять все вехи на пути освоения бахтинских идей и его ответвления, связанные с развитием концепций, от тех же идей отталкивающихся.
Пропуская все дискуссии, иллюстрирующие особенности восприятия названных книг (а полемика вокруг этих произведений была нешуточной), подхожу к дате, на мой взгляд, ключевой. В 1986 г. в сборнике «Философия и социология науки и техники : ежегодник, 1984– 1985» появилось произведение из бахтинского архива (фрагмент большого труда), которое было опубликовано под названием «К философии поступка» [6] . (Мнение о том, что перевод этого труда на английский язык стал вехой в англоязычной бахтинистике, прозвучал в Бертиноро в докладе инициатора проведения Бахтинских конференций, о чем будет сказано далее.)
Ключевым указанное событие оказалось не только потому, что с этого момента начался пересмотр сложившихся интерпретаций творчества Бахтина (на необходимость которого и ранее намекали «посвященные»), но еще и потому, что во второй половине 1980-х гг. радикально изменилась ситуация в отечественной философии и в гуманитарных науках. Опубликованная в 1986 г. работа, действительно, и по стилю, и по проблематике радикально отличалась от произведений, благодаря которым творчество ученого приобрело известность и популярность во всем мире. Казалось бы, как это обстоятельство могло повлиять на восприятие более поздней по времени бахтинской философии языка? Разве что экспликацией того факта, что эволюция творчества Бахтина подкрепляется логикой развития философии ХХ века (от феноменологии — к философии языка)?
Новая публикация и сопутствующие ей толкования (в качестве косвенных доказательств) подводили к умозаключению: все, что мы знали о Бахтине, это еще не все . Возможно даже, что мы вообще принимали его за другого (а все, что знали — это видимость, а не сущность). Вывод, следующий из названных посылок, напрашивался сам собой: шансы на понимание Бахтина стремительно уменьшаются у тех, кто не знаком с местными реалиями на собственном опыте, а потому не способен почувствовать контекст. Ярче всего это «герменевтическое лукавство» проявилось в отношении так называемых спорных работ, тех самых, которые бахтинисты стали называть «девтероканоническими».
Здесь нужно сделать еще одно отступление, поскольку о спорности этих трудов непосвященный мог бы и не узнать: в библиотечных каталогах они шли под рубрикой «труды М. М. Бахтина», в библиографическом указателе фигурировали в разделе «Перечень трудов, написанных при участии М. М. Бахтина» [7] (плюс к тому — известные свидетельства известных авторов, перечислять которые в очередной раз было бы излишне). Основные дискуссии по поводу «девтероканонических» работ развернулись уже в 1990-е гг. и совпали с известной переориентацией, перестройкой отечественных гуманитарных наук. То есть факт дискуссий вокруг проблемы авторства, как и следовало ожидать, оказался помножен на сложившуюся в отечественных гуманитарных науках ситуацию.
Больше всего вопросов вызвал сам подход к обоснованию статуса спорных работ: наиболее известная его версия вместо прояснения ситуации создавала новую двусмысленность. Данная версия предполагала, что Бахтин, будучи (со)автором данных произведений, в то же время не разделяет ответственности за их содержание. А как иначе следует понимать получившую широкое распространение версию их происхождения, согласно которой Бахтин создавал, или принимал участие в создании упомянутых работ, от лица определенного персонажа? То есть от лица ученого-марксиста, поскольку все труды данного цикла выдержаны в духе философии марксизма. Другими словами, да, он участвовал в их создании, но сам так не думал (поскольку марксистом не был).
Логика такого обоснования вполне вписывалась в общий процесс деидеологизации как идеологии наших гуманитарных наук на рубеже 1980– 90-х гг. Необыкновенная легкость осуществленного поворота, нередко сопровождавшаяся у отечественных интеллектуалов отказом от собственных трудов, не прибавляла доверия к сказанному впоследствии и не гарантировала не-случайности новообретенной авторской позиции. Подразумеваемая установка, в соответствии с которой можно легко (как шелуху) отбросить идеологию и за ней обнаружится содержание, которое было скрыто ненужными наслоениями, на рецепции творчества Бахтина сказалась не лучшим образом. Можно даже сказать, что случай с восприятием творчества Бахтина обнаружил ее сомнительность и просто несостоятельность. Так что случившееся можно считать своего рода «верификацией» (точнее, фальсификацией). Тем более, что в творчестве самого Бахтина тема «не-алиби в бытии» и неслучайности авторского слова, понимаемого как ответственный поступок, занимает центральное место. Учитывая это, версия автора-персонажа выглядит не убедительной. Однако более вразумительной версии, претендующей на объяснение широкой публике необычного статуса данных работ, предъявлено не было.
И еще. Трудно согласиться с тем, будто всемирная известность пришла к Бахтину в результате недоразумения — а ведь именно к такому выводу подводили интерпретаторские усилия, настаивающие на «игровом» характере ряда трудов ученого и, как следствие, противопоставляющие феноменологические работы Бахтина его версии философии языка.
Поначалу воспринятая рядом исследователей, версия об автореперсонаже все же оказалась неубедительной (причем, особенно неубедительной она показалась именно западным бахтинистам). Поэтому реакция исследовательского сообщества, предположившего, что у спорных трудов все-таки должен обнаружиться автор , причем автор, который не отделял бы себя от созданного им «мира объективно значимого содержания», вполне объяснима. Отсюда простой логический ход: если Бахтин «так не думал», то должен быть тот, кто воспринимал сказанное всерьез. Почему же не согласиться с тем, что это именно тот, чье имя указано на титульном листе? А далее «аудиту» подверглось все: и традиционная периодизация творчества Бахтина, и биографические данные — все стало восприниматься с оттенком некоторого скепсиса и как повод для новых уточняющих исследований.
О бахтинистах и диалоге
Уже после IX Международной бахтинской конференции 1999 г. в Берлине (довольно представительной и масштабной) можно было предположить, что интеллектуальные «инвесторы» вскоре перестанут «вкладываться» в наше интеллектуальное пространство из-за его непредсказуемости. В случае с Бахтиным мера загадочности и неопределенности превысила все допустимые пределы. Неожиданные повороты, сопровождавшие новые публикации его наследия, держали ученую публику в постоянном напряжении и ожидании того, что в любой момент может появиться нечто, способное кардинально изменить наши представления об объекте исследования.
Возможно, именно усталость от сенсаций, связанная с затянувшимся во времени «открытием» философа, у нас привела к тому, что Бахтин достаточно быстро вышел из поверхностной интеллектуальной моды. Дискуссионное «поле боя» стали покидать и некоторые западные бахтинисты. К восприятию ситуации западными коллегами как нестабильной добавились корректирующие и одергивающие реплики, которые позволяли себе в их адрес некоторые отечественные авторы, указывая зарубежным коллегам на недостаточное знание местных реалий. Несмотря на перечисленные факты, число западных исследователей творчества Бахтина все еще остается довольно внушительным, и именно на Западе берет свое начало история международных бахтинских конференций, инициатором и бессменным вдохновителем которых на протяжении уже 30 лет является канадский исследователь Клайв Томсон. Конференции, как правило, проходят раз в два года; в 1995 г. VII Международная бахтинская конференция состоялась в Московском педагогическом государственном университете.
Список литературы Разноречие и разногласия: дискуссии о М. М. Бахтине в Бертиноро
- См.: Bakhtin: Through the Test of Great Time : the XIV International Bakhtin Conference [Электронный ресурс]. URL: http://www.bakhtinconference2011.it/index.html (дата обращения: 28.09.2012). Программу и материалы конференции см.: http://www.bakhtinconference2011.it/Def_Prog.pdf (дата обращения: 28.09.2012).
- Речь идет о ряде произведений, вышедших в период с 1925 по 1930 г., статус которых очень необычен: их авторство (или участие в их написании) приписывалось М. М. Бахтину, но они были опубликованы под именами других авторов. Термин «девтероканонические» по отношению к ним был использован в статье С. С. Аверинцева, в которой он высказал следующее предложение: «Моральные и отчасти юридические аспекты проблемы атрибуции этих работ вызвали немало волнений и недоумений. Я предлагаю с непринужденностью оставить проблему нерешенной и считать ее не подлежащей решению». См.: Аверинцев С. С. Михаил Бахтин: ретроспектива и перспектива // Дружба народов. 1988. № 3. C. 259.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 2. изд., перераб. и доп. М., 1963.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики : исследования разных лет. М., 1975.
- Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники : ежегодник, 1984-1985. М., 1986.
- Михаил Михайлович Бахтин : библиогр. указ. Саранск, 1989.
- См.: Богатырёва Е. А. Драмы диалогизма: М. М. Бахтин и художественная культура ХХ века. М., 1996. Приведу одну цитату из этой книги: «История создания "девтероканонических" работ, конечно, не прояснена. Существует ряд версий, претендующих на объяснение их происхождения. Например, версия, согласно которой Бахтин сознательно вступил в игру, создавая данные произведения от лица определенного персонажа — литературоведа-марксиста, приверженца социологической школы. И хотя эта версия не кажется мне убедительной, она выдержана как бы в духе последующих бахтинских работ и потому могла бы послужить иллюстрацией некоторых мотивов его философии языка» (С. 84). См. также: Богатырёва Е. А. М. М. Бахтин: этическая онтология и философия языка // Вопр. философии. 1993. № 1.
- Волошинов В. Н. Слово в жизни и слово в поэзии // Звезда. 1926. № 6.
- См.: Хабермас Ю. Московское интервью : Ю. Хабермас отвечает на вопросы Ю. Сенокосова для журнала «Вопросы философии», апр. 1989 г. //Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность : московские лекции и интервью. М., 1995.
- Обсуждение данных проблем см., напр., в книге: Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М., 2005.
- Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929.
- Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка : основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л.,1929.
- Clark K., Holquist M. Mikhail Bakhtin. Cambridge (Mass.) ; L., 1984.
- О Николае Бахтине см., например: Шестаков В. П. Жизнь на агоне: культурологические идеи Николая Бахтина // Культурологический журнал [Электронный ресурс]. 2010. 1. URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/12.html&j_id=2 (дата обращения: 28.09.2012) [примеч. ред.].
- Бахтин М. М. Проблема текста // Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. Т. 5. Работы 1940-х — начала 1960-х гг. М., 1996.