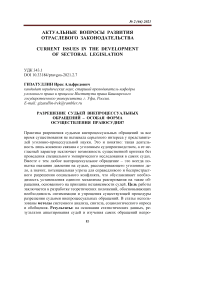Разрешение судьей внепроцессуальных обращений - особая форма осуществления правосудия?
Автор: Гизатуллин Ирек Альфредович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Актуальные вопросы развития отраслевого законодательства
Статья в выпуске: 2 (64), 2021 года.
Бесплатный доступ
Практика разрешения судьями внепроцессуальных обращений за все время существования не вызывала серьезного интереса у представителей уголовно-процессуальной науки. Это и понятно: такая деятельность лишь косвенно связана с уголовным судопроизводством, а ее негласный характер исключает возможность существенной критики без проведения специального эмпирического исследования в самих судах. Вместе с тем любое внепроцессуальное обращение - это всегда попытка оказания давления на судью, рассматривающего уголовное дело, а значит, потенциальная угроза для справедливого и беспристрастного разрешения социального конфликта, что обуславливает необходимость установления единого механизма реагирования на такие обращения, основанного на принципе независимости судей. Цель работы заключается в разработке теоретических положений, обосновывающих необходимость оптимизации и упрощения существующей процедуры разрешения судьями внепроцессуальных обращений. В статье использованы методы системного анализа, синтеза, социологического опроса и обобщения. Результаты: на основании статистических данных, результатов анкетирования судей и изучения самих обращений непроцессуального характера автор делает вывод о том, что практика разрешения судьями таких обращений сопровождается большими трудностями, вызванными пробелами и неопределенностями в законе, а ее масштабы свидетельствуют о формировании нового, неизвестного до этого направления в деятельности судей.
Внепроцессуальные обращения, непроцессуальные обращения, независимость судей, уголовное судопроизводство, судья, правосудие
Короткий адрес: https://sciup.org/142232974
IDR: 142232974 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Разрешение судьей внепроцессуальных обращений - особая форма осуществления правосудия?
Одновременно с появлением в 2013 г. в УПК РФ статьи 8.1 «Независимость судей» все процессуальные кодексы были дополнены положением, определившим порядок реагирования судей (председателя суда, его заместителей, председателей судебных коллегий) на внепро-цессуальные обращения. Предусмотрено, что обращения по всем видам судебных дел, поданные лицами (организациями, государственными органами) в не предусмотренных законодательством случаях или участниками судебного разбирательства в не предусмотренной процессуальным законом форме, должны быть преданы гласности путем их размещения на официальном сайте суда и не должны являться основанием для проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений. Как известно, это правило стало дополнением положения о независимости судей и, по своей сути, выступает еще одной гарантией невмешательства со стороны кого бы то ни было в деятельность судьи и суда в целом.
Появление данной нормы, как и самого принципа независимости судей, научное сообщество встретило неоднозначно. Основная критика, которая высказывалась в связи с этими изменениями, заключалась в отсутствии целесообразности закрепления «непроцессуального» правила в законе, регулирующего процессуальную деятельность. Отметим, что на тот момент некоторые исследователи, как и сам автор, находили и другие его частные недостатки: неопределенность порядка предания обращения гласности, возможность злоупотребления правом на самостоятельное принятие решения о размещении информации об обращении [1, c. 286], узкий круг субъектов, обращения которых признаются внепро-цессуальными [2, c. 110], и др. Однако с течением времени постепенно исчезли некоторые неясности в самой процедуре реагирования на об- ращения. Так, не раз были изданы разного рода инструкции1, уточнившие порядки регистрации, обработки и размещения информации об обращениях, а само реагирование для российских судей за этот период стало привычной, устоявшейся практикой.
Очевидно, что сейчас нет необходимости вести долгие разговоры об оценке введения данного положения в процессуальные кодексы, – актуальность рассматриваемой темы теперь обусловлена рядом неблагоприятных последствий, прочно сформировавшихся в результате установления в законе не известных до этого правил разрешения внепроцес-суальных обращений. Во-первых, речь идет о серьезных масштабах, которые приобрела практика реагирования на обращения в российских судах, став новой разновидностью деятельности судей наряду с осуществлением правосудия. Во-вторых, возникновение обязанности разрешения внепроцессуальных обращений не сопровождалось законодательными правками, которые достаточным образом определяли бы существо таких обращений при наличии смежных видов обращений и устанавливали бы четкий порядок разрешения каждого из них на практике. По понятным причинам, эти обстоятельства не носят гласный характер, всегда остаются за закрытыми дверями, и разве что человек, который сам задействован в осуществлении судебной власти, может иметь хоть какое-то представление об этом. Однако результаты обобщения эмпирических данных, сбор которых производился автором в судах общей юрисдикции с 2018 по 2019 г. и сопровождался анкетированием судей, изучением судебных дел и общением с персоналом судов, сами по себе явились достаточными основаниями для постановки проблемы и формулирования некоторых выводов.
Опубликование информации о внепроцессуальном обращении на официальном сайте суда как установленная законом форма реагирования есть исключительно техническая задача, которую решают, по по- нятным причинам, не сами судьи. Между тем совершению данного действия всегда предшествует ряд других трудоемких процессов, совершаемых уже непосредственно судьями и остающихся за рамками правового регулирования. Не любое обращение, поданное в не предусмотренных законом случаях, сразу признается внепроцессуальным, поскольку отечественное законодательство предусматривает еще один вид обращений непроцессуального характера, именуемых непроцессуаль-ными1. Принципиальным отличием их является то, что они подаются не в связи с производством по судебному делу (как внепроцессуальные), а являются способом реализации гражданами своего конституционного права на обращение в государственные органы. В них зачастую содержится личная оценка деятельности суда, критика качеств отдельных судей, нереализуемые по понятным причинам просьбы, запросы и рекомендации, обращенные к руководству суда. Кроме данного отличия существенной разницы между этими обращениями, в общем-то, нет, а до момента отнесения судьей обращения к той или иной категории его статус и вовсе непонятен. В связи с этим по каждому поступившему обращению требуется провести специальный анализ содержания с целью определения его вида, поскольку порядок реагирования по ним абсолютно разный, регулируется разными нормативными актами.
Изучение правовой базы, определяющей порядок работы с такими обращениями, позволило сделать вывод о наличии в ней множества пробелов: неизвестен субъект, уполномоченный определять вид обращения, отсутствует хоть какая-нибудь регламентация процедуры и срока, в рамках которого лицо должно определить вид самого обращения. Все это приводит к тому, что практика разрешения всех обращений непроцессуального характера не имеет никакого единообразия в российских судах. В то же время несложно догадаться, что оценить содержание обращения и определить его вид при отсутствии четких критериев способен только сам судья (председатели суда, коллегии, составов), тем более когда в содержании одного обращения сосредоточены процессуальные, внепроцессуальные и непроцессуальные заявления лица.
Составление судьей ответа заявителю пусть зачастую и не предполагает особых трудностей, но является следующим обязательным этапом при разрешении каждого обращения любого вида. Постоянные указания суда на невозможность принятия решения, влекущего право- вые последствия, по высказанной просьбе и рекомендация о необходимости подачи заявителем обращения в установленном законом порядке стали атрибутом, пожалуй, всех ответов. Копирование шаблонных формулировок из одного ответа в другой является рутинным действием, смысл которого разве что в постоянном напоминании гражданам о необходимости использования допустимых способов отстаивания своих прав путем подачи процессуальных жалоб или ходатайств. Однако и возразить по этому поводу нечего: в большинстве случаев ничего другого в ответе не укажешь, а его отсутствие становится дополнительным поводом для подачи заявителем нового обращения-жалобы в вышестоящий суд.
Чтобы убедиться в том, что разрешение всех видов непроцессуальных обращений составляет существенную часть повседневной деятельности судей и руководства суда, достаточно обратиться к некоторым статистическим данным. Согласно отчету отдела делопроизводства Верховного суда Республики Башкортостан только за первое полугодие 2019 г. зарегистрировано 497 обращений непроцессуального характера к судьям по вопросам, связанным с рассмотрением уголовных дел, 634 обращения по гражданским и 107 – по административным делам. То есть за 6 месяцев судьями было рассмотрено и разрешено чуть менее полутора тысяч обращений граждан и организаций – участников судебных разбирательств. Примечательно, что на официальном сайте суда опубликовано несравнимо малое количество таких обращений, чем это есть на самом деле: за 2019 г. опубликовано всего два обращения, за 2018 г. – одно, за 2017 г. – три обращения1.
Схожую ситуацию можно увидеть на официальных сайтах многих других российских судов различных уровней. Так, на сайте Челябинского областного суда последнее внепроцессуальное обращение размещено в 2014 г.2, хотя нет никаких сомнений, что такие обращения – частое явление всегда и в любом регионе страны. Большая разница между количеством фактических и опубликованных обращений, на первый взгляд, может показаться как минимум странной, однако полагаем, что в этом нет серьезной драмы. Данное обстоятельство обусловлено проблемой выполнения персоналом суда технической задачи по опубликованию обращений, но никак не является свидетельством игнорирования судьями обращений и тем более их утаивания.
При попытке определения средней нагрузки выполнения такой задачи каждым судьей путем разделения количества обращений на общее количество судей внутри судейского корпуса конкретного суда, на первый взгляд, получатся не слишком критичные цифры. Однако заметим, что на практике обязанность по разрешению обращений непроцессуального характера не распределяется равномерно, поскольку их адресатами зачастую выступают не все судьи.
Ознакомление с непроцессуальными обращениями позволило нам условно разделить их на две группы исходя из специфики содержания. К первой группе мы отнесли обращения, адресованные участниками судебного разбирательства непосредственно судьям или коллегии судей по существу рассматриваемого дела. В них зачастую содержатся письменные просьбы о принятии того или иного решения по делу, справедливом назначении наказания, советы о необходимости квалификации преступлений по определенной статье и т. д. Такие обращения встречаются довольно редко, что, скорее всего, связано с психологическим барьером, стоящим на пути у потенциальных заявителей: мало кто рискнет указывать или советовать судье, как разрешить дело, в котором он является заинтересованным лицом и участником разбирательства в предстоящем судебном заседании. Именно поэтому на вопрос о том, насколько часто судьи сами разрешают заявленные обращения по существу дела, большинство (93 судьи – 84,04 %) ответило, что очень редко (1–2 раза в несколько месяцев) или никогда, 19 (16,96 %) – редко (1–2 раза в месяц). Варианты ответов «очень часто» (более 2-х раз в неделю) и «часто» (1–2 раза в неделю) не были выбраны вообще1. Обратим внимание, что эти результаты характерны как для Республики Башкортостан, так и для Челябинской области, а потому связывать их с территориальными особенностями конкретного региона не имеет смысла.
Вторую группу образуют внепроцессуальные обращения по уголовным делам, адресованные руководству суда – председателю суда, его заместителям, председателям судебных коллегий и составов, и разрешаемые впоследствии ими же. Часто можно встретить обращения с просьбами ускорить рассмотрение дела, взять «на контроль» ход судеб- ного разбирательства, связанные с недовольством по поводу сроков рассмотрения дела и т. д. или жалобами на действия судей нижестоящих судебных инстанций. Получается, что обязанность по разрешению подавляющего большинства обращений выполняется руководством суда или отдельными судьями, на которых она специально возложена, зачастую одними и теми же. Кроме того, можно встретить обращения с неясным содержанием, не подписанные заявителем, поданные ошибочно в суд, который не рассматривает конкретное дело, или содержащие высказывания оскорбительного характера в адрес судей и правосудия в целом1. Тем не менее с каждым из них суды обязаны ознакомиться, принять решение и изложить его в письменном виде или, в исключительных случаях, вернуть заявителю без рассмотрения. Очевидно, что совершение всех этих действий характеризуется выполнением судьями непроцессуальной функции, не связанной напрямую с осуществлением правосудия, и требует больших временных затрат. Возможно, именно поэтому 76,78 % респондентов полагают, что предусмотренная процедура никак не связана с обеспечением независимости судей, а лишь сама может стать дополнительным фактором ограничения судейской независимости.
Внепроцессуальные обращения существовали всегда и без легального определения в законе, а разрешались и без установления специального порядка реагирования на них. Для этого было достаточным понимание судьями того, что любые обращения непроцессуального характера находятся вне предмета судебного спора, вне процессуальных форм разрешения социального конфликта, а значит, не должны порождать процессуальных последствий без специального упоминания об этом. Вопрос о том, как с ними поступать, к собственно уголовному, как и к любому другому виду правосудия, тоже не относится, а потому никогда не было необходимости в разработке каких-то канцелярских правил реагирования на эти обращения.
К примеру, именно такой подход был реализован в ходе Судебной реформы 1864 г. при создании действительно независимого суда, без попыток очертить какие-то формализованные рамки судейской независимости. Достаточно вспомнить, что Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и Учреждение судебных установлений 1864 г. не предусматривали не только ничего похожего на современное правило о реа- гировании на внепроцессуальные обращения, но и не содержали даже словосочетания «независимость судей», хотя создание действительно независимого суда в условиях абсолютной монархии признается главным достижением Судебной реформы тех лет. Ее авторами независимость судей воспринималась как имманентное свойство правосудия, не нуждающееся в каких-то особых канцелярских «подпорках»: либо ты судья и ты независим, либо ты просто не судья [3, с. 10]. Следует вспомнить и известный разговор А.Ф. Кони с министром юстиции (он же – генерал-прокурор по должности) графом К.И. Паленом накануне процесса по делу Веры Засулич, в котором министр объяснял председательствующему судье, как было бы политически правильно разрешить это дело. Известен и ответ А.Ф. Кони, сказавшего, что вопрос о виновности подсудимой будут решать присяжные, а он не вправе влиять на их решение. Этот случай приводится в воспоминаниях самого А.Ф. Кони и широко используется в современной литературе [4, c. 17]. Такова была реакция настоящего судьи на «внепроцессуальное обращение» очень влиятельного должностного лица. Заметим, что никакие нормативно определенные правила не требовали от судьи именно такого поведения, и уж тем более не существовало каких-либо специально предусмотренных порядков реагирования на внепроцессуальные обращения.
Сейчас же, как можно заметить, внимание к процедуре разрешения обращений обострено настолько, что создается впечатление, будто самого высокого звания судьи и осознания им этого уже недостаточно, чтобы противостоять этим и некоторым другим вмешательствам. Разумеется, это не так. То, каким образом должен реагировать судья на такие обращения, определяется и без специальных положений, поскольку его независимость a priori предполагает игнорирование любых обращений (ходатайств), поданных не в рамках установленной процедуры, а способность судьи противостоять разного рода «внепроцессуальному давлению» обеспечивается статусом судьи вообще, порядком назначения его на должность и освобождения от нее, денежным и иным его содержанием, но, главное, его собственным осознанием себя как носителя судебной власти, подчиняющегося только закону [5, c. 83].
В завершение сформулируем некоторые выводы.
-
1. Любые непроцессуальные обращения в адрес суда и судей, а также практика их разрешения – это известное явление, особый формат диалога общества и его представителей с судебной властью, существовавший всегда, но трансформировавшийся с течением времени, особенно сильно – в современную эпоху цифровизации.
-
2. Важность фактического существования такого диалога в правовом государстве и транспарентности судебной власти не позволяет судам изолироваться от внешней социально-правовой среды, а предложение некоего отказа от института непроцессуальных обращений считать рациональным и реализуемым способом решения выявленных проблем.
-
3. Все канцелярские правила, установленные для разрешения таких обращений, – вынужденная мера, результат появления цифровых форм подачи обращений и законодательного закрепления новых видов непроцессуальных обращений. Значимость таких правил состоит разве что в поддержании все того же диалога общества и суда путем фиксации, обработки обращений и реагирования на них.
Пути совершенствования нормативной регламентации и практики разрешения любых обращений непроцессуального характера в целях решения обозначенных проблем могут быть самыми разными. Однако в каждом случае важно помнить, что суды с момента их возникновения были призваны осуществлять правосудие, а деятельность конкретного судьи состоит в разрешении социального конфликта, ставшего предметом судебного разбирательства, и только. Считаясь с этим нехитрым тезисом при проведении реформ любого масштаба, уже можно порой не допустить превращения суда в часть чиновничье-бюрократического аппарата, а гарантий судейской независимости – в формализованный атрибут должности судьи.
Список литературы Разрешение судьей внепроцессуальных обращений - особая форма осуществления правосудия?
- Гизатуллин И.А. Была ли необходимость закреплять независимость судей в качестве принципа уголовного судопроизводства? // Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса: сб. матер. Всерос. заоч. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Уфа, 2014. С. 285-291.
- EDN: ZVYMTM
- Вилкова Т.Ю. Непроцессуальные гарантии независимости судей в уголовном судопроизводстве // Вестник Алтайск. акад. экономики и права. 2014. № 2 (34). С. 107-111.
- EDN: RXBKLH
- Тарасов А.А., Гизатуллин И.А. Независимость судей - имманентное свойство уголовного правосудия и глобальная его проблема // Вестник Российск. ун-та дружбы народов. Сер.: Юридические науки. 2018. № 1. С. 21-41.
- EDN: YVXKTZ
- Боровков Ю.М., Добровольская С.И. А.Ф. Кони и современность // Кони А.Ф. Курс уголовного судопроизводства. М.: Американская ассоциация юристов, 2011. С. 11-20.
- Тарасов А.А. Конституционные основы правосудия и принципы уголовного судопроизводства // Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса: сб. матер. Всерос. заоч. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Уфа, 2014. С. 79-85.