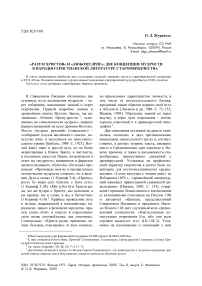«Разум Христов» и «любомудрие»: две концепции мудрости в народно-христианской литературе старообрядчества
Автор: Журавель Ольга Дмитриевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье затрагивается проблема двух культурных моделей, имевших место в старообрядческой литературе в XVII-XX вв. Основное внимание уделено новым тенденциям в риторической культуре Выга в XVIII столетии.
Риторика, старообрядцы, барокко, проповедь
Короткий адрес: https://sciup.org/14737045
IDR: 14737045 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи «Разум Христов» и «любомудрие»: две концепции мудрости в народно-христианской литературе старообрядчества
В Священном Писании обозначены два основных пути достижения мудрости – через собирание, накопление знаний и через откровение. Первый подробно описан в древнейших книгах Ветхого Завета, так называемых «Книгах Премудрости» 1, основанных на «письменности мудрых», широко распространенной на всем древнем Востоке. Метод «мудрых речений» («машалов») – «собирание плодов жизненного опыта», искусство жить и находиться на интеллектуальном уровне [Библия, 1989. С. 1923]. Ветхий Завет знает и другой путь, но он более акцентирован в Новом Завете, в частности, в посланиях апостола Павла, полемически в ответ на «мудрость» книжников и фарисеев провозгласившего «буйство» (безумие) проповеди: «Проповедь моя не в препретелных человеческия мудрости словесех, но в явлении Духа и силы» (1 Коринф 2:4); «Премудрость бо мира сего буйство у Бога есть» (1 Коринф 3:18); «Мы (убо) буи Христа ради, вы же мудри о Христе; мы немощни, а вы крепци; вы в славе, а мы в бесчестии» (1 Коринф 4:10) 2. Крайнее проявление путь к истине, выраженный в новозаветных парадоксах, нашел в феномене юродства, причем слова «буй» и «юрод» в старославянском языке употреблялись как синонимы. Сознательно, «Христа ради» принимая личину безумия, отказываясь от всех социаль- но приемлемых характеристик личности, в том числе от интеллектуального багажа, юродивый таким образом вершил свой путь к Абсолюту [Лихачев и др. 1984. С. 72–153; Иванов, 1994]. Обретение знаний не через выучку, а через чудо откровения – мотив, хорошо известный и в древнерусской агиографии 3.
Два понимания истинной мудрости отразились, очевидно, в двух противоложных концепциях писательского труда и, соответственно, в разных теориях текста, имевших место в Средневековье, при переходе к Новому времени, а также в письменности старообрядцев, преемственно связанной с древнерусской. Установка на профетиче-ский характер творчества в целом была характерна для восточнославянского средневековья. «Слово калугера о чтении книг» из Изборника 1076 г., «древнейший литературный манифест православной славянской цивилизации» [Пиккио, 2003. С. 134], утверждает принцип Божественного вдохновения (с аллюзивными отсылками на Псалом 118) и авторитет образцов, представленный Священным Писанием и преданием. Именно Псалом 118 дает «духовный код» средневековой словесности: «Благословенны испытующие откровения Его, ибо они всем сердцем взыскуют его» (Пс 118: 2). Установка на вдохновение и связанный с ним
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 08-01-00274а).
принцип образцов («imitatio»), господствовавший в «практической» поэтике Средневековья, по мнению Риккардо Пиккио, были главными причинами того, что Древняя Русь почти не знала риторик и поэтик. «Слово калугера» да еще трактат «О обра-зех» Георгия Хировоска из Изборника 1073 г. (и то, и другое – переводные византийские сочинения), являются редкими исключениями. «Христианское православное догматическое учение как таковое, в своем неделимом единстве, являлось функциональным эквивалентом того, что с современной точки зрения можно назвать «теорией литературы» [Там же. С. 129].
В Московской Руси теории текста, порожденные «новым культурным сознанием» [Калугин, 1996. С. 611–616] и связанные с утверждением Slavia Orthodoxa, появились к середине XVI в., когда благодаря усилиям Максима Грека, Андрея Курбского, Федора Карпова и некоторых других деятелей культуры появляются тенденции высокой оценки гуманитарной учености книжника, требования филологической обработанности текста, сопровождавшиеся ориентацией на нормативные кодексы – грамматики, риторики. Однако эти проникавшие на Русь новые теории текста не означали в то время коренной перестройки филологической культуры. Это произойдет позднее - во второй половине XVII – начале XVIII в., в эпоху раннего Нового времени. Именно следование нормативным стратегиям риторик и поэтик, распространявшим свое влияние на словесное творчество в России со второй половины XVII в.4, следует признать главным показателем изменений, происходивших в области словесности (хотя, разумеется, сущность культурного переворота, произошедшего на рубеже XVII–XVIII вв., нельзя свести к одной особенности). С. Матхаузерова справедливо пишет о столкновении в это время традиционной «субстанциональной» теории текста с новой для России «рационалистической» (на этом основании противопоставляя, например, барочных силлабиков и староверов), но она же проницательно отмечает то, что эти тенденции не были жестко за- креплены за одной идейной партией [Мат-хаузерова, 1976. С. 271–284].
Первые расколоучители категорически отрицали всяческое литературное умствование, риторство и философию [Панченко, 1973. С. 190–193; Лахманн, 2001. С. 32–40; Успенский, 1996]: «не учен диалектики, и риторики, и философии, а разум Христов в себе имам» – заявлял протопоп Аввакум [Робинсон, 1963. С. 42] 5. Не случайно высшим образцом для него служили послания апостола Павла [Герасимова, 1993. С. 33–56]. Закономерен и юродский стиль поведения Аввакума. В контексте его анализа уже приводилась фраза, сказанная протопопом в ответ на упреки патриархов, поддавшихся, на его взгляд, «новинам»: «Мы уроди Христа ради! Вы славни, мы же бесчестни! Вы сил-ны, мы же немощни!» [Лихачев и др., 1984. С. 67].
Старообрядцы «второго поколения», деятели знаменитого центра на Выге, основанного в конце XVII в., истинную премудрость связывают уже напрямую с риторикой, философией и прочими «науками». Основные принципы Выговской литературной школы определились уже в первые два десятилетия XVIII в., чему в немалой степени способствовала активная литературная и теоретическая деятельность руководителя Выговского центра, крупнейшего идеолога старообрядчества, талантливого писателя и полемиста Андрея Денисова [Дружинин, 1911; Понырко, 1979; Юхимен-ко, 2002]. В творчестве выговских книжников меняется традиционное отношение к тексту: принцип имитации, следования древним образцам ограничивается воспроизведением отдельных элементов прежней поэтической системы (в частности, это был обширный круг авторитетных цитат 6), сам же процесс создания оригинальных сочине- ний ориентирован на современные риторические модели.
Доказано, что выговские книжники знали все книги по риторике, распространенные в России на рубеже XVII–XVIII вв. [Понырко, 1981. С. 154–162]. К ним относится прежде всего риторика Софрония Лихуда 1698 г. в переводе бывшего афоноиверского иеродиакона Козьмы и собственная Риторика Козьмы 1710 г. Обе эти книги, возникшие в среде писателей «старомосковской» партии, имеют ярко выраженный барочный характер. Основаны они на «Искусстве риторики» Франциско Скуффи 1681 г. – греко-униата, преподававшего философию и богословие в венецианской эллинской школе [Лопарев, 1907. С. 146–198]. Выговцы учились искусству слова и по «Ключу разумения» Иоан-никия Галятовского, выдающегося южнорусского гомилета второй половины XVII в. В выговском сборнике начала XVIII в. из собрания Института истории СО РАН (№ 97/70) удалось обнаружить список буквального перевода на русский язык трактата по составлению проповедей из этой книги [Журавель, 2008а]. Использовали выговские старообрядцы и риторическое оружие своих современников, известных деятелей православия, писателей и проповедников Феофана Прокоповича, Стефана Яворского. Все эти книги в разной степени отразили пестрый спектр тенденций, характерный для России «переходного периода»: барочных, гуманистических, просветительских. Все стратегии, представленные в риториках упомянутых авторов, предполагают рационализацию и логизацию творческого процесса, содержат те «хитрости», которых так опасались древнерусские книжники. Наибольшим приоритетом у Андрея Денисова пользовались барочные риторики – Софрония и Козьмы, не случайно именно Риторика Софрония легла в основу 7 оригинального труда – созданной в конце 20-х гг. XVIII в. Риторики-свода 8 [Понырко, 1981]. Большое внимание Андрей Денисов уделял риторическому и логическому учению Раймунда Люллия – средневекового философа, богослова и поэта, сочинения которого были из- вестны в России в рецепции Андрея (Яна) Белобоцкого – барочного поэта и философа, осужденного за еретические взгляды [Горфункель, 1992. С. 128–131]. В «Великой науке» Люллия-Белобоцкого, переработанной в 1725 г. Андреем Денисовым [Никанор, 1913. С. 10–36; Дружинин, 1914. С. 342–344; Журавель, 2005], логический метод был предложен в качестве «ключа к овладению всеми науками». В Риторике Люллия-Белобоцкого даны описания шести форм только одного из жанров словесности – проповеди. Все эти формы можно найти в структуре проповеднических сочинений Андрея Денисова, а иногда – комбинацию нескольких форм 9. Показательно отсутствие единого образца, множественность, вариативность моделей. В этом, возможно, следует видеть одно из проявлений релятивистской теории текста, характерной для барокко, стиля, глубоко проникшего и в вы-говскую литературную культуру [Юхимен-ко, 2002; Журавель, 2008б].
Общая тенденция различных риторик, знакомых выговцам, – обличение невежества, той самой «простоты», граничащей с «буйством», которую полемически противопоставлял «внешней» мудрости своих идейных противников протопоп Аввакум. В риториках утверждался приоритет разума и учености, порицалось «безумие» и «буйство». Эта оппозиция характерна для барочных Риторик Софрония Лихуда и Козьмы: учение противополагается безумству, буйству, простоте, невежеству. Старославянское слово «буй» последовательно обретает негативную коннотацию. Фрагменты, где выражен этот взгляд на истинную мудрость, вошли в неизменном виде в выговскую Риторику-свод, а затем в основанную на ней Поморскую риторику 10 [Понырко, 1981. С. 161] 11). Кроме того, та же тема звучит в оригинальных примерах, составленных для Риторики-свода выговскими книжниками: в так называемых «доводах» (логических упражениях-образцах) Мануила Петрова 12: «Кое благополучие у безумнаго помышляе-ши быти? Мудростию ли он просвещается, но в безумии всегда пребывая, не хощет нимало во учении мудрости потрудитися; от собрания ли разума ум свой обогащает, но сей когда-либо разумных словес не хощет послушати... Беседами ли разумными с премудрыми человеки чювства разумныя просвещает, но яко свиния калом, тако сей глаголы безумными и буими (курсив здесь и далее мой. – О. Ж.) услаждается…»13. Антонимическое противопоставление «безумных» и «ученых» проходит через многие примеры в обеих выговских оригинальных риториках. Премудрость же виделась прежде всего в словесном искусстве, в овладении риторским художеством, в «собирании» разумных богатств.
Показательно предисловие к тематическому сборнику, составленному уже последователями Денисовых в последней четверти XVIII в. 14. Сборник содержит Риторику Феофана Прокоповича, грамматику и два слова Андрея Денисова, демонстрирующих «риторскую премудрость»: «Сотове медов-ни…» [Дружинин, 1912. С. 118, № 121] (см. о нем далее в нашей статье) и «Слово о девстве » [Там же. С. 115–116. № 110]. Приведем фрагмент из этого предисловия.
«Колико есть добра и неоцененна пред-ражайшая премудрость, благоразумнии чи-тателие, яко премудрейший царь Соломон дражайше всех видимых славных веществ предсудих ю быти <…> Аще же толикою превысочайшею честию толикий всепре-мудрейший муж почте неоцененно дражайшую премудрость, то кто из земнородных не возрачительствует о стяжании ея, ибо по его же сказанию вся нам благая с нею приходят… Она учит правде и мужеству, целомудрию же и кротости. В чем же она совершенно состоит и какая себе пространнейшая определения притяжет, о сем особливо целым словом доказано будет. Ныне же вкратце чин оный зде показуется, порядок к сей предлежит в разсуждении словеснаго художества наиболее от орфографии, поступая в этимологию, а от сего в синтаксис, в по- этику, в логику или в риторику. Аще же из синтаксиса поступит кто в риторику, то может и той с начетом прочих книг добре ри-торствовати, присовокупя к сему Раймундову философию или метафизику. И тако для сего учения вкратце здесь предлагается краткий сий и ясный новосочиненный в северных странах синтаксис, посем краткая и ясная приложена знатнаго российского ритора Феофана Прокоповича Риторика, а потом и сочиненныя чрез риторская места нашим ритором Андреем Дионисиевичем предлагаются два слова, дабы желающеи изучити-ся риторскому художеству по изучении синтаксиса и риторики чиновне умели слагати и целыя слова…» 15.
Это текст замечателен во многих отношениях: перечислением сочинений, составляющих основу «премудрости» (куда включена, в частности, философия Раймунда Люллия), апелляцией к Соломону, тем, что «знатный российский ритор», высокий представитель православной церкви Феофан Прокопович оказывается в одном ряду со старообрядцем, «нашим ритором Андреем Дионисиевичем». Причем риторика первого названа в качестве обязательного теоретического пособия, а слова Андрея Денисова – в качестве реализации подобных теорий 16.
Сочинение, включенное в это сборник в качестве образца для «желающих изучитися риторскому художеству», – одно из наиболее совершенных в художественном отношении слов Андрея Денисова. В слове на «фему»17 «Сотове медовни, словеса добра, сласть же их исцеление души» (Прит 16:24) прославляется премудрость, и прочел его выговский наставник, по свидетельству биографа Андрея Борисова, в Киеве (куда ездил в 1718 г.) перед слушателями Киево-Могилянской академии, снискав при этом высокие оценки знатоков киевской учености [Дружинин, 1911. С. 25]. Библейские цитаты, в основном из Ветхого Завета, излюб- ленного источника аргументации южнорусских и московских барочных проповедников [Попов, 1886. С. 72], вводятся в текст этого слова столь обильно, что сочинение читается почти как риторически украшенный парафраз, как образец «ращения словес» [Маркасова, 2002. С. 119] на основе темы, заданной библейской метафорой. Общая его архитектоника достаточно традиционна для южно-русской и зависимой от нее московской проповеднической школы: это так называемая 8-частная «хрия» (по терминологии Люллия-Белобоцкого, «1-я форма риторическая»). Тема мудрости представлена здесь как тема обогащения, стяжания учености, реализована через образы золота, драгоценных украшений. Сочинение отличается разработанной ритмикой, фоникой, что характерно для лучших образцов проповеднического творчества Андрея Денисова.
В полном согласии с тенденцией, выраженной риториками, находится и сочинение, относящееся к пограничному с проповедью жанру послания, «О любомудрии », того же автора [Дружинин, 1912. С. 110, № 80]: «ибо мудрость есть художество божественных и человеческих вещей, богоданное разумное имение» 18. Слово начинается пышным тропом – «любомудрия светлейшие рачители» уподобляются пчелам, собирающим мед. Автор дает собственную цветистую риторическую вариацию метафоры, известной и в средневековой, и в барочной культуре:
«Якоже пчелное люботрудие, естествоводимо, изяществует в медособирании, – всюду обтичюще, на всяк сад и цвет устремляются, крины селныя сосут, травы лугов облизуют, татебствуют всяко насея-ние; капли медовныя от всех крадуще, собрание пресладко и дивно меда собирают, и не своему точию чреву и гортани плодоно-сяще, но преизобильно собирающе, яко домом и купилищем довольствовати от сладости собрания их, - сице любомудрия свет-лейшии рачители от веков возрастшия лю-бомудрецов любомудрия винограды тако лобызают…» Овладение мудростью и здесь осмысляется как обогащение, накопление, собирание сокровищ. Не случайно в не- большом сочинении Андрея Денисова слова с корнем богат / богащ употреблены 16 раз. Стилистические приемы, утверждавшиеся в барочных риториках, повторы и корневая синонимия, акцентировали принцип лейтмотив-ности, свойственный барочным текстам. Так, одним из сквозных мотивов Слова о любомудрии Андрея Денисова становится мотив богатства. Приведем цитату, в которой речь идет о собирателях мудрости: «На всяк доб-роразумия сад, яже узрят, устремляются, от всякаго, яже обрящут, доброумия источника черплюще, возгромаждают сокровище премудрости. И тако обогащшеся, обогащают другия, обогащающе же иныя, многосугуб-нейше преобогащаются». Как видно из приведенной цитаты, здесь используется и метафора, реализующая образ выращиваемого дерева. В итоге возникает мотив сада, тесно связанный, как известно, в письменной и устной христианской традиции с темой рая. Адресат послания назван «бога-тособирателем», наслаждающимся «в премудрых садех пресладкаго разумособра-ниа».
Кроме того, овладение книжной премудростью уподобляется здесь солнечному свету и сравнивается с тем, что освещает вселенную, при этом подчеркивается преимущество солнца просвещения: «оно во дни токмо, наипаче же в весну и лето, си еже и в нощех, и в есень, и зиму равно ос-ветлевающе рачители своя».
Вслед за посланием о любомудрии Андрея Денисова в том же сборнике из собрания Института истории СО РАН переписано сочинение его брата, известного писателя и киновиарха Семена Денисова, развивающее ту же тему, «Послание отца Симеона Дионисиевича к некоему премудру мужу о любомудрии» [Дружинин, 1912. С. 152, № 87]. И в этом сочинении истинная мудрость трактуется как широта познаний, как ученость, составляющая «всеблагодатное естество разумнаго богатства», она есть «все-предивное совершенство всепресладкаго любомудрия»19.
Место, куда адресовано послание, обозначено как «асийския пред h лы» («и асий-ския пред h лы и Вашю любовь достизая»). Так в выговских памятниках назывались
Сибирь, Зауралье («Асия Симовна» в одном из надгробных слов). Спустя три с половиной столетия это послание, пройдя путями миграции осваивавших восточные пределы страны староверов, оказалось в собрании рукописей Института истории СО РАН, напоминая, наряду с другими текстами сборника, о высокой книжной культуре крупнейшего старообрядческого центра.
Теории текста старообрядцев Выга XVIII в., основанные на европейских риторических учениях XVII–XVIII вв., были связаны с общекультурными процессами той эпохи. Общая тенденция дальнейшего пути старобрядческой письменности отчасти связана с консервацией разных традиций – как и традиции выговской (благодаря чему мы обретаем тексты выговских писателей в поздних сборниках представителей разных согласий), отчасти с возрождением средневекового отношения к текстам. Не случайно юродская парадигма реализуется в агиографическом творчестве староверов-часовен-ных конца XIX – середины XX в. [Журавель, 2002. С. 32–36]. Трепетно-бережное отношение к авторитетным книжным образцам сочетается со смелой постановкой весьма острых догматических вопросов. В области же словесной культуры, несмотря на несколько ярких имен народных старообрядческих книжников, мы должны признать постепенное затухание высокой филологической культуры и вторжение (в лучших образцах староверческого творчества) фольклорной стихии [Покровский, Зольникова, 2002. С. 314–394].