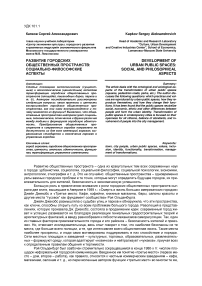Развитие городских общественных пространств: социально-философские аспекты
Автор: Капков Сергей Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена онтологическим (сущностным) и аксиологическим (ценностным) аспектам трансформации городских общественных пространств (площадей, пешеходных дорог, парков и т. д.). Автором последовательно рассмотрены следующие вопросы: какие практики и ценности воспроизводят городские общественные пространства, как они сами воспроизводятся и почему меняются их функции? Выявлено, что общественные пространства нейтрализуют социальные, экономические, этнические и другие различия между людьми и формируют городскую идентичность. Преобразование общественных пространств в современных городах направлено на доступность их для всех категорий горожан, выравнивание стандартов и вовлечение горожан в управление городом.
Город, горожане, городское общественное пространство, ценности, инклюзия, идентичность, функционал, трансформация, управление изменениями
Короткий адрес: https://sciup.org/14940774
IDR: 14940774 | УДК: 101.1
Текст научной статьи Развитие городских общественных пространств: социально-философские аспекты
Развитие общественных пространств – одна из краеугольных тем всех современных наук о городе: урбанистики, социологии, социальной философии, социальной психологии, экономики, антропологии, этнографии и т. д. Это не случайно: общественные пространства – одновременно узлы важных городских проблем и те точки, которые могут определить будущее городов, их привлекательность для жителей, безопасность и экономическую успешность.
Большую роль в привлечении внимания к роли городских общественных пространств сыграли две книги, вышедшие в Америке в 1989 г.: «Смерть и жизнь больших американских городов» Джейн Джекобс и «Третье место: Кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места “тусовок” как фундамент сообщества» Рэя Ольденбурга.
Джейн Джекобс размышляла о судьбах улиц и парков и обнаружила, что эти пространства, как ключи, способны открыть путь ко всем проблемам большого города. Революция в представлениях, которую произвела Дж. Джекобс, состояла в продвижении идеи: современный город живет и успешно развивается не благодаря реализации гениальных градостроительных теорий и архитектурных фантазий, а ввиду разнообразия и гибкости механизмов саморегуляции. Так, один из главных факторов привлекательности города и его районов – безопасность жителей и приезжих. Но, отмечает исследовательница, весь опыт говорит о том, что наиболее безопасны не те места, где больше всего полиции, а те, где интенсивнее всего общественная жизнь. Такие места наиболее прозрачны, и люди сами мотивированы поддерживать в них спокойствие и порядок. Сети местных площадок и заведений – культурных, торговых, образовательных, развлекательных – формируют среду, которая адаптирует «новичков» и нейтрализует «чужаков», приучая всех к определенным правилам общения и терпимости.
Рэй Ольденбург был озабочен стремительно сокращавшимся в конце 1980-х гг. числом площадок неформальной городской коммуникации. Введенное им понятие «третье место» (первое место – дом, второе – работа), как правило, относится к частным коммерческим заведениям – кафе, магазинам, салонам и т. д., но перечисленные автором функции «третьих мест» во многом те же, что и у общественных пространств. «Первой и самой главной функцией» он называет объединение района: жители узнают друг друга, приучаются общаться и при необходимости решать общие проблемы. Вторая функция - ассимиляция приезжих. Третья - поиск людей с похожими интересами. «Третьи места» часто служат тому, чтобы впервые свести людей вместе - людей, которые позже создадут другие формы общения [1, с. 22]. Другие функции: выявление «публичных персонажей», которые благодаря личным качествам станут играть важную роль в районе; совместный отдых молодежи и старших, взаимодействие поколений; социализация детей; поддержание социализации пенсионеров; общение ради совместного веселья, которое стоит отделять от развлечений, узурпированных индустрией; развитие чувства принадлежности к данному месту и сообществу; интеллектуальный, политический и культурный форум; наконец, «третьи места» могут служить офисом, когда какие-то деловые встречи и переговоры удобнее проводить в неформальной обстановке. Буквально все из перечисленных функций могут выполнять и общественные пространства, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, - парки, библиотеки, общедоступные площадки разнообразных культурных институций. Не случайно выражение «третье место» в современных СМИ трактуется более широко и охватывает любые места, где люди могут неформально общаться.
После огромного успеха книг Дж. Джекобс и Р. Ольденбурга появились работы Роберты Грац, Бернарда Рудофски, Уильяма Х. Хайта, Чарльза Лэндри, Ричарда Флориды, Шарон Зукин и многих других авторов, серьезно затрагивающие или напрямую посвященные вопросам развития общественных пространств. Нельзя не отметить и глубокие исследования российских урбанистов, прежде всего В.Л. Глазычева и А.А. Высоковского.
Второе десятилетие XXI в. еще больше усилило интерес к этой теме, чему способствовали такие факторы, как активная ревитализация городских пространств, утративших свое экономическое, политическое и социальное значение (необщественные пространства становятся общественными и наоборот); развитие инклюзии - включение людей, чьи возможности здоровья по разным причинам ограничены, в более интенсивные городские коммуникации; общественные движения, захватывающие большие городские пространства, - Таксим в Стамбуле, Майдан в Киеве, Occupy Wall Street в США, демонстрации и митинги в Москве; наконец, террористические акты и угрозы, выбирающие целью общественные пространства и большие скопления народа.
Городское общественное пространство: к определению понятия
Понятие «городское общественное пространство» связывает три категории, каждая из которых сама с трудом поддается точной дефиниции: «город», «общество» и «пространство». Сейчас после многочисленных попыток придумать «всеобщее» определение понятия «город» становится ясно, что такового нет и, по всей видимости, уже и не будет. Город всегда оказывается сложнее, чем любое его описание, сколь угодно точным и подробным оно бы ни было [2, т. 1, с. 92]. Не проще ситуация и с двумя другими категориями, но мы попробуем уточнить их смысл через анализ наших объектов.
Начнем с пространства . В объем понятия «городские общественные пространства» входят локальные территории: площади, рынки, набережные, парки, прогулочные дороги, бульвары, кладбища, общественные площадки административных, религиозных, культурных и спортивных объектов и т. д. По своим пространственным характеристикам их разделяют на открытые (являющиеся частью городского ландшафта) и закрытые (расположенные внутри зданий или на изолированных территориях), по месту в структуре города - на центральные и периферийные.
Вместе с тем это не только и не столько локации, но и практики и смыслы, которые на них или в них воспроизводятся. У каждого такого места имеется свой функционал, то есть комплекс активностей, которые ежедневно или периодически там происходят. Он может быть узко специализированным (например, рыночная площадь) и более широким (скажем, на ратушной площади могли зачитываться указы, происходить городские праздники и устраиваться публичные казни). Этот функционал подвижен, то есть может меняться с течением времени.
Исторические и экономические процессы могут изменять функционал общественных пространств в массовом масштабе. После падения коммунистического режима и в результате экономических преобразований культурные и спортивные объекты во многих городах бывшего СССР начали превращаться в вещевые рынки - на это был широкий общественный запрос. Но был и другой запрос: так, планетарий в центре Риги снова стал кафедральным собором, которым и являлся до советских времен, а в некоторых российских городках кинотеатры перестраивались в церкви, потому что своих церквей там не было, а строить новые не хватало средств. Другой процесс, начавшийся в Европе и затем охвативший все континенты, - преобразование бывших промышленных строений, районов и целых регионов (как Рурский бассейн), из которых ушло производство, в общественные пространства. Самый актуальный пример в сегодняшней Москве -редевелопмент автопромзоны Завода им. И.А. Лихачева в «Полуостров ЗИЛ», который станет
«городом в городе» и объединит жилые постройки, культурные и образовательные пространства, сеть каналов, набережные, бульвары и парки.
Таким образом, слово «пространство» соединяет в себе три смысла: 1) ограниченная территория; 2) место, хранящее историческую память; 3) функционал, или комплекс практик, которые на этом месте продолжают воспроизводиться.
Второй признак, выраженный в названии рассматриваемого класса объектов, - это пространства общественные . В этом определении содержатся тоже по крайней мере три смысла: 1) это не частные пространства, они находятся в государственной или муниципальной собственности; 2) они потенциально доступны всему городскому сообществу и, как правило, бесплатны; 3) они используются на благо общества, то есть их функционал востребован разными категориями горожан.
Выше уже было сказано, что форма собственности не создает жестких границ между частными кафе и общественными библиотеками. О многих частях современного города невозможно сказать, частные они или общественные, государственные или гражданские, центральные или периферийные [3, с. 32-33]. Форма собственности имеет значение для управления этими пространствами. Как следствие, частные институции могут иметь больше степеней свободы, чем государственные и муниципальные, но могут и оказаться заложниками вкусов и предубеждений своего владельца. Тем не менее реальное значение того или иного пространства определяет не наличие хозяина, а то, как и насколько оно востребовано обществом.
Понятие «общество», понимаемое как организатор, заказчик и пользователь услуг общественных пространств, тоже исторически подвижно, что сказывается на доступности разных пространств для разных групп горожан. В современном демократическом понимании общество должно охватить всех людей, и идея инклюзии как раз направлена на то, чтобы все общественные блага были доступны и для более бедных категорий населения, и для тех, чьи права ущемлены по национальным, религиозным, социальным, культурным и другим причинам, и для тех, чья активность ограничена возможностями здоровья и развития.
Двигаясь от конца к началу, мы дошли до третьего признака наших объектов - городских . По своему объему понятия «городские пространства» и «общественные пространства» - два пересекающихся множества. Городские пространства могут быть не общественными, а жилыми и рабочими. Общественные пространства имеются не только в городах, но и в селах и деревнях (церковь, рынок, клуб, места сходок и посиделок), и на больших территориях (например, тинг, куда сходились жившие обособленными семьями-хозяйствами средневековые германцы и скандинавы).
Что отличает общественные пространства именно в городе? Если посмотреть на функции, перечисленные Р. Ольденбургом, то большая часть из них свойственна сельским и деревенским сообществам едва ли не в большей степени, чем городским. Коммуникации в деревне, «где все друг друга знают», не говоря уже о связи поколений, более концентрированы, чем в городе. Город благодаря наличию «третьих мест» скорее пытается преодолеть свойственную ему атомизацию и отчуждение жителей друг от друга. Но одну из функций, названных Р. Ольденбургом, - развитие чувства принадлежности к данному месту и сообществу, - можно уточнить, и мы получим признак, который представляется ключевым и специфичным именно для городских общественных пространств.
Городские общественные пространства воспроизводят не только свой функционал и не просто коммуникационные пространства - они формируют новые типы идентификации человека.
Человек как природное существо детерминирован рядом факторов. Это его пол, возраст, психотип, внешность, состояние здоровья, наследственность и т. п. Как социальное существо он тоже в основном детерминирован - своим классом, гендером, социальными группами, имущественным положением, воспитанием и т. д. И бремя этих детерминирующих идентификаций он должен пронести через всю жизнь, они определяют его место в социальной структуре, политическом и экономическом пространствах - где и среди кого он будет жить и функционировать.
Только попадая в общественное пространство города, он частично освобождается от принудительной заданности своего бытия. Груз детерминант не исчезает, но частично нейтрализуется, потому что в каждом месте, в каждой практике возникают новые идентификации: во время политических и гражданских акций все становятся гражданами, на параде - все победители, в церкви - все дети Божьи, в театре - все зрители, на выставке - все ценители искусства (даже тот, кто не является знатоком, самим местом поставлен в позицию эксперта). Парк - одно из самых многофункциональных общественных пространств, здесь можно прогуливаться, отдыхать, играть, назначать свидания и встречи, заниматься спортом, фотографироваться, и сам этот веер подвижных, может быть, сиюминутных ролей складывается в зыбкую идентификацию «че- ловек в парке» или «посетитель парка». Несмотря на всю зыбкость, благодаря тому что представители этой идентификации находятся в ограниченном пространстве, мы можем их посчитать и выяснить, что в 2010 г. в Москве было 10 млн посетителей парков, а в 2014 г. стало 35,7 млн.
В отличие от детерминирующих характеристик подобные общности возникают только в данном пространстве. В них можно входить и выходить, это подвижные идентификации, и вместе с ощущением причастности и единения они дают человеку ощущение свободы.
Британский социолог Джон Урри отмечает особое место тротуаров и других прогулочных площадок, поскольку телесная активность свободно передвигающегося человека – практика, наиболее утверждающая социальное равенство всех членов общества. Ходьба также является самой «эгалитарной» из всех систем мобильности. Хотя прогулка и маркирована классовой, гендерной, этнической и возрастной принадлежностью и на возможность пешего хождения сильно влияет доступность технологий, все же в этой системе мобильности социального неравенства гораздо меньше, чем в остальных. При прочих равных чем мощнее пешеходная система, тем меньше социального неравенства в обществе. Можно сказать, что тротуары и тропы для «общества» значительно полезней, чем кресла и автомобили [4, с. 197–198].
Общественные пространства и коллективные нетрудовые практики в селе и деревне тоже выполняют аналогичную – компенсирующую и освобождающую – роль, но там они более синкретичны и их не так много. В городе общественные практики дифференцированы и специализированы, как и все остальное – социальные стратификации, разделение ремесел, а затем индустриальных форм производства и т. д. «Воздух города» или «стены города делают человека свободным», говорили в средние века. Но освобождают не воздух и не стены, а общественная среда, которая формируется не во дворцах, не в хижинах, не в казармах, не в мастерских, не на заводах, где жизнь детерминирована и функциональна, а в городских общественных пространствах и происходящих там действах.
Теперь можно сформулировать общее понятие: городские общественные пространства – это городские территории, не находящиеся в частном владении, потенциально доступные всем членам городского сообщества, выполняющие общественно полезные функции, способствующие коммуникации и солидарным действиям горожан, формирующие и воспроизводящие городские идентичности.
Трансформация городских общественных пространств и человеческие ценности
Как уже неоднократно замечалось, многие городские общественные пространства переживают трансформации – меняется их функционал, необщественные пространства преобразуются в общественные и наоборот, к одним пространствам горожане теряют интерес, другие успешно завоевывают популярность и становятся центрами городского притяжения. Чтобы сориентироваться в этой динамике, нужно понять, как наши объекты возникают и как они воспроизводятся.
Существуют два способа возникновения городских пространств – стихийная самоорганизация и проектирование. Между ними лежит реорганизация и перепланировка уже существующих пространств. Агора – рыночная площадь в городах Древней Греции, одновременно служившая средоточием религиозной, политической и деловой жизни, – в самых древних городах формировалась довольно бессистемно. Вокруг открытого пространства выстраивались святилища, общественные здания и торговые ряды. В эллинистическую эпоху агора уже планировалась по определенному стандарту. Афинская агора, судя по всему первоначально не имевшая никакого плана, была перестроена во II в. до н. э. и на современных реконструкциях имеет более рациональный и «классический» вид. В последующие эпохи мы имеем много примеров упорядочения ранней стихийной застройки городов, такие как деятельность императора Карла IV в Праге в XIV в., предопределившая развитие города на столетия вперед, или перестройка Парижа по проекту барона Османа в XIX в., решавшая многочисленные задачи – от того, как соединить пешеходные пути и стремительно развивающееся движение городского транспорта, до того, как сделать невозможным повторение баррикадных боев на парижских улицах.
В наши дни пространства, которые устойчиво воспроизводятся, сохраняя свой функционал, не требуют от городской власти активного вмешательства – для них достаточно механизмов мягкого регулирования, проведения ремонта и других поддерживающих мер. Но в ситуации, когда общественные пространства теряют присущий им функционал, общественную привлекательность, становятся нерентабельными и отягощающими городской бюджет либо, наоборот, обнаруживают потенциал нового роста, а также если возникают общественные угрозы, связанные с данными пространствами, появляется необходимость в административном вмешательстве и переходе к активному управлению их развитием.
Управление – это всегда выбор между альтернативами: что отсечь, что ввести, куда направить, во что вложить ресурсы? Все решения, которые принимаются в ситуации выбора, основываются на ценностях. Именно более важная ценность определяет предпочтительное решение.
А.А. Высоковский, много размышлявший о том, какие ценности выражены в городской жизни, предполагал, что существуют ценности особого рода, упорядочивающие бытование, поведение и деятельность человека в географическом пространстве [5, т. 1, с. 110–115; т. 3, с. 27–29]. Он определял их как «материальные и ментальные конструкции одновременно, объекты, сцепленные со значениями. И действуют они в среде обитания человека, по нашему определению также являющейся соединением материального, искусственного и природного окружения с жизнедеятельностью, сознанием и духовностью обитающих в нем людей» [6, т. 1, с. 110].
Пространственные ценности – не абстракции, которыми оперирует классическая аксиология (религиозность, нравственность, красота, целесообразность, удовольствие и т. д.). Они выражены в самой структуре планировки городов и являются своеобразными «точками отсчета» любой освоенной территории. Агора – центр греческого города – могла складываться стихийно, но сама она была выражением общественного, экономического и мифопоэтического сознания жителей греческого полиса. Другие точки отсчета – мандала в древней и современной Индии, круг с вписанным в него квадратом, обозначающие Вселенную в ее целостности, или практика фэншуй в странах Дальнего Востока, упорядочивающая потоки энергии, чтобы сделать их благоприятными для человека.
Вслед за Э. Панофским можно выявить общие идеи, выраженные в высокой готике и схоластической философии и в ценностной революции, которую произвели мыслители и строители Ренессанса. Барокко, классицизм, романтизм, модерн, авангард, постмодернизм – каждая эпоха находила новые формы для пространственной реализации новых смыслов, которые открывало развитие западного общества и в общем фарватере которых развивалось и российское общество Нового времени. Вместе с тем ценности, выраженные в городской планировке и архитектуре, неоднородны.
Одна из главных проблем городской среды, по А.А. Высоковскому, состоит в том, что «негативные черты в городе – шум, загрязненность, теснота, небезопасность улиц, чрезмерная трата времени на перемещения и многие другие – неустранимы и вечны, как и сам город» [7, т. 3, с. 28]. Примирить негативное с позитивным горожанину помогает психологический механизм, который исследователь назвал компенсаторной механикой оценки и создания среды . Горожане выстраивают свое отношение к тем или иным местам, одновременно используя две конкурирующие ценностные шкалы. Первая задается главным местом города, как правило его центром. «Данная шкала удерживает ценность коллективного, публичного начала в городе» [8]. Не случайно стоимость жилья и аренды пространств тем выше, чем они ближе к центру, к наиболее важным административным, культурным, торговым, коммуникационным объектам города. «Вторая шкала задается ценностью персонального мира человека. Это шкала ценностей приватной, индивидуальной жизни, связанная с квартирой, дачей, старой квартирой родителей, двором, кварталом. <…> Здесь ценятся совершенно иные смыслы жизни в городе – тишина, близость природного окружения, обилие зелени, ограниченность доступа на жилую территорию» [9].
Компенсаторная механика обеспечивает баланс этих ценностей. Более высокие оценки места по одной шкале неизбежно оказываются низкими по другой. Планирование, проектирование и управление городской средой должно опираться на понимание этих компенсаций, и это непосредственно определяет структуру и субординацию общественных пространств.
Парадоксальным образом описанные А.А. Высоковским ценностная шкала 1 и ценностная шкала 2 напоминают понятия «культура 1» и «культура 2», введенные историком архитектуры В.З. Паперным, только с перевернутыми индексами. Его знаменитая книга «Культура Два» [10] – близкое к исчерпывающему исследование российских ценностных концептов, выраженных в архитектуре и проектировании городских пространств в Новое время (отсчитывая от петровских реформ). Мы циклично возвращаемся к имперской идее демонстрации величия, которая выражается в градостроительной вертикали, центростремительности и эклектике (культура 2), но даже когда отступаем от нее к более демократическим – горизонтальным и центробежным – формам организации своего пространства (культура 1), они часто принимают у нас обличье уравнительной утопии и обезличенной стандартизации.
Объяснение сходства первой шкалы А.А. Высоковского с культурой 2, а второй шкалы – с культурой 1 видится нам, конечно, не в том, что современный урбанист сознательно или бессознательно воспроизвел архетипы, свойственные отечественной культуре, а скорее в том, что культура 2 – не специфически российское явление, а проявление нарушенного в российской культуре баланса ценностей. Нам свойственно впадать в крайние формы, и, вместо того чтобы одно компенсировалось другим, у нас попеременно то одна, то другая шкала «зашкаливает». Но то, что в советское время выражалось достаточно системно (доминирование культуры 1 в 1917–1932 гг., культуры 2 в 1932–1954 гг., затем снова отход к культуре 1), в 2000-е гг. стало проявляться беспо- рядочно и подчас гротескно. На сегодняшнем пространстве Москвы Москва-Сити, Дом музыки, ансамбль на Поклонной горе, памятник Петру I, памятник святому князю Владимиру – характерные продукты культуры 2, но воспринимаются они либо как откровенная архаика, либо как не очень удачная имитация мировых образцов. Это типичное творчество чиновников, а не решение насущных задач города.
Актуальная ценностная повестка для сегодняшних российских городов (и, разумеется, не только российских) – понижение прессинга во всех его формах: административных, энергетических, информационных, транспортных и пр. Многое говорится о необходимости экологичного отношения к природе, страдающей от антропогенных нагрузок и перегрузок, но экологичного отношения заслуживает и сам человек, страдающий от перегрузок техногенных и социогенных. Главной целью города становится внимание к горожанину и его интересам, создание возможностей для его разносторонней самореализации. Такому типу городской среды соответствуют рыночная экономика, активная поддержка малого бизнеса, демократические установки в принятии решений, толерантное отношение к разным культурам и образам жизни.
Когда мы приезжаем в современные европейские города, в Берлин, Барселону, Прагу, даже в маленькие городки, везде видим, что европейские ценности – не слова, а практики, нашедшие те самые пространственные воплощения, о которых говорил А.А. Высоковский. Это прежде всего выравнивание стандартов жизни и инклюзия – свободный, удобный и привлекательный доступ для всех.
Город становится осмысленным человеческим и общественным пространством, когда сами горожане формируют позитивную городскую повестку. Самые живые города – те, в которых действуют механизмы самоорганизации, самые мертвые – те, которые целиком родились в головах чиновников, учила Джейн Джекобс [11].
Появление у людей ответственности за свой город и то, что в нем происходит, – в этом видят важную роль общественных пространств авторы доклада «Мировые города 2016: Урбанизация и развитие – планирование и регулирование надвигающегося будущего общественных пространств», подготовленного экспертами британской компании BOP_Consulting на основе данных, предоставленных городами-участниками Культурного форума мировых городов: «Доступ к общественным открытым пространствам и их использование является первым физическим и одновременно с этим весьма символичным шагом в сторону расширения гражданских прав и возможностей, увеличения доступа людей к институциональным и политическим пространствам. Хорошо продуманные и ухоженные улицы и общественные пространства приводят к снижению уровня преступности и насилия. Общественные пространства могут сделать города более успешными и процветающими, изменить жизнь горожан и сам образ города. В более общем плане жителям легче проявлять себя в условиях гибкой городской среды, создавая чувство гражданской общности и принадлежности для нынешних и будущих поколений, которые должны воспитываться с целью осуществления ими впоследствии управления на основе широкого участия» [12, p. 192].
Ссылки:
-
1. Ольденбург Р. Третье место: Кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества. М., 2014. 454 с.
-
2. Высоковский А.А. Сочинения : в 3 т. M., 2015. Т. 1. Theory. 436 с. Т. 2. Practice. 400 с. Т. 3. Public. 352 с.
-
3. Трубина Е.Г. Публика: краткий очерк понятия // Публичная сфера: теория, методология, кейс стади. М., 2013. С. 25–34.
-
4. Урри Дж. Мобильности. М., 2012. 576 с.
-
5. Высоковский А.А. Указ. соч. Т. 1. С. 110–115. Т. 3. С. 27–29.
-
6. Там же. Т. 1. С. 110.
-
7. Там же. Т. 3. С. 28.
-
8. Там же.
-
9. Там же.
-
10. Паперный В.З. Культура Два. М., 2006. 407 с.
-
11. Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов. М., 2011. 457 с.
-
12. World Cities Report 2016. Urbanization and Development: Emerging Futures. UN-Habitat, 2016. 262 p.
Список литературы Развитие городских общественных пространств: социально-философские аспекты
- Ольденбург Р. Третье место: Кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества. М., 2014. 454 с.
- Высоковский А.А. Сочинения: в 3 т. M., 2015. Т. 1. Theory. 436 с. Т. 2. Practice. 400 с. Т. 3. Public. 352 с.
- Трубина Е.Г. Публика: краткий очерк понятия//Публичная сфера: теория, методология, кейс стади. М., 2013. С. 25-34.
- Урри Дж. Мобильности. М., 2012. 576 с.
- Паперный В.З. Культура Два. М., 2006. 407 с.
- Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов. М., 2011. 457 с.
- World Cities Report 2016. Urbanization and Development: Emerging Futures. UN-Habitat, 2016. 262 p.