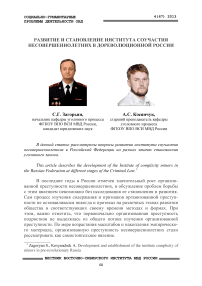Развитие и становление института соучастия несовершеннолетних в дореволюционной России
Автор: Загорьян С.Г., Косянчук А.С.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД
Статья в выпуске: 4 (67), 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрены вопросы развития института соучастия несовершеннолетних в Российской Федерации на разных этапах становления уголовного закона.
Короткий адрес: https://sciup.org/14335616
IDR: 14335616
Текст научной статьи Развитие и становление института соучастия несовершеннолетних в дореволюционной России
В последние годы в России отмечен значительный рост организованной преступности несовершеннолетних, и обсуждение проблем борьбы с этим явлением невозможно без исследования ее становления и развития. Сам процесс изучения содержания и признаков организованной преступности не останавливался никогда и протекал на различных этапах развития общества в соответствующих своему времени методах и формах. При этом, важно отметить, что первоначально организованная преступность подростков не выделялась из общего потока изучения организованной преступности. По мере возрастания масштабов и накопления эмпирического материала, организованную преступность несовершеннолетних стали рассматривать как самостоятельное явление.
∗ Zagoryan S., Kosyanchuk A. Development and establishment of the institute complicity of minors in pre-revolutionary Russia
Организованная преступность несовершеннолетних это сложное социальное явление. С точки зрения уголовного права организованная преступность несовершеннолетних еще остается одним из частных аспектов групповой подростковой преступности, что не совсем соответствует действительности. Организованная преступность несовершеннолетних - криминальное явление особого рода, обладающее чрезвычайной общественной опасностью. Это положение признают представители всех криминологических школ и направлений, как в России, так и за рубежом. Однако на этом единство во мнениях относительно организованной преступности заканчивается, уступая место самым разнообразным определениям, характеристикам, признакам [1].
В данной работе организованная преступность несовершеннолетних выступает как специфическое системное явление, которое производно от социальной среды, как глобальной социальной системы, но, одновременно являясь одной из структур этой системы, оказывает сильное влияние на другие структуры и систему в целом. Она обладает способностью в своих целях изменять общественные отношения, деформировать деятельность государственных и общественных структур и институтов. В то же время она имеет некоторые общие для разных пространственновременных условий черты: наличие организованных и взаимосвязанных формирований и структур, сплоченность их участников, наличие системы управления такими формированиями и структурами, иерархия структур и участников, совершение преступлений на постоянной основе.
Термин «организация» латинского происхождения, означает внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого, объединение людей, совместно реализующих программу или цель [2]. Необходимость правильного, глубокого содержательного понимания сущности организованной преступности несовершеннолетних определяет значимость обращения к памятникам древнерусского и феодального права, законодательным актам Российской империи, не потерявшим своей актуальности и в настоящее время.
Еще в Библии в VIII веке до н. э. говорилось: «не следуй за большинством на зло» [3]. Русская Правда определяла: «Аже кто крадет скот, то же будет один, то пла-тити ему три гривны и 30 кун, будет ли их много, всем по три гривны и 30 кун платити» - учиненное вменялось каждому, и ответственность была одинаковой, безотносительно к характеру и степени участия каждого [4]. Русское уголовное право достаточно поздно стало выделять признаки субъекта преступления. В отличие от некоторых европейских стран, например Норвегии, где уже в Уголовном кодексе XIII века преступнику делались определенные скидки (ребенку в отличие от взрослого отрубали не две руки, а одну). В России впервые в Соборном уложении 1649 года говорится: «семи лет отрок кого убьет - не повинен в смерти», среди форм соучастия уложение выделяло скоп и заговор [5]. В Воинских Артикулах Петра I впервые определялось, что организатор подвергался самой тяжелой ответственности [6].
В более поздних документах российского права ХУШ-Х1Х веков внимание как к правовому положению, так и к преступлениям несовершеннолетних возрастает. Так, в Указе 1765 г. были определены правила о наказании, применяемые к малолетним преступникам (от 10 до 15 и от 15 до 17 лет) [7]. Указом императрицы Елизаветы Петровны, отмечал В. В. Есипов, было определено лиц моложе семнадцати лет, которые совершили корыстные и иные преступления, представлять в Сенат, где с ними разбирались по мере их вины, а малолетние, совершившие преступления от 10 до 15 лет, наказывались розгами [8]. Данное положение императрицы нашло отражение в Своде законов Российской империи 1832 г.
Позитивное уголовное право интерпретируется нормативистской криминологией как отражение естественного права в уголовном законодательстве. Зарождение нормати-вистской парадигмы связывают с именами Г. Гроция, Г. Кельзена, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, в начале ХУП-ХУШ вв., развивших идею о естественном праве. Социологическое направление в изучении преступности и в том числе организованной преступности, возникает позже, значительное влияние на него оказали труды О. Конта, Э. Дюркгейма и др. Одной из первых работ, посвященных изучению преступности в России, считается «О законоположении» А.Н. Радищева (1802 г.). В XIX веке самостоятельное направление получает социологическая школа, занимающаяся анализом преступности, представителями которой являются И.Я. Фой-ницкий, Н.Д. Сергеевский, А. А. Пионтковский и др.
Первой практической попыткой защитить права детей стало создание Института общественного призрения и издание в Англии в 1908 г. Children Charter - первой кодификации прав детей. В первой половине XIX века ювенальная политика в российском уголовном праве была связана с развитием общественных и частных форм призрения детей и разработкой законодательства о регулировании поведения несовершеннолетних.
В Уложении о наказания уголовных и исправительных 1845 года предельный возраст невменяемости был равен 7 годам, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 21 года подвергались менее строгому наказанию, если было доказано, что в преступление их вовлекли совершеннолетние лица. При сговоре выделялись: зачинщики двух видов -физические (пущие), то есть управ- ляющие другими или первые приступившие, и интеллектуальные, то есть склонившие к преступному деянию других; сообщники, согласившиеся с другими выполнить совокупными действиями преступление [9]. Статья 6 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года, предоставляла право мировым судьям определять несовершеннолетним в возрасте от 10 до 17 лет взамен заключения в тюрьме помещение в исправительные приюты [10]. Уже в середине XIX века групповая преступность несовершеннолетних вызывала особую тревогу исследователей. Показатель доли несовершеннолетних, совершивших преступление в группе от всех несовершеннолетних, совершивших преступления в 1855 году в России составлял 62 %, в 1868 г. -67 % [11].
С середины XIX века в России возникает и развивается особое научное направление, связанное с возрастающей криминальной активностью несовершеннолетних. Новая доктрина реализовывалась через соответствующие законодательные акты. Так, Уложение о наказании 1885 г. уменьшало наказание на одну или две степени, если несовершеннолетний был вовлечен в преступление взрослым лицом [12].
В переводе с латыни «concursus delinquentium» - стечение преступников. Под стечением преступников А. Жиряев понимал «такое нескольких лиц к одному и тому же преступлению отношение, вследствие коего каждое из них является или заведомо участвовавшим в его совершении, или же учинившим другое какое-либо противозаконное деяние, но по поводу или в интересах первого» [13]. Профессор И.Я. Фойницкий в 1891 году исходил из положения: «Quod delinquent, tot delicta» - сколько преступников, столько и деликтов. Ответственность, по его мнению, должна быть индивидуальна, каждый должен отвечать лишь за то, что он сделал сам, а не за действия других, учение же о соучастии якобы вводит эту ответственность не только за личную, но и за чужую деятельность [14].
В своих лекциях профессор М.П. Чубинский, критикуя вышеприведенную позицию И.Я. Фой-ницкого, писал: «Как с точки зрения причинной связи и наличия при совместных предприятиях возможности большего развития преступной энергии, так и для установления целесообразной ответственности необходимо возражать против уничтожения института соучастия. Его нужно принять, но нужно все время помнить о его границах. Где нет единства воли, соглашения, там нет соучастия, там лишь случайное совпадение нескольких лиц в деле, совпадение деятельности, не связанной единой волей» [15].
Анализ уголовного законодательства второй половины XIX века свидетельствует о том, что процесс развития правовой базы охраны прав детей и предупреждения пре- ступности несовершеннолетних отставал от насущных интересов общества. Политика государства по предупреждению преступности подростков отличалась непоследовательностью.
В дореволюционной России насчитывалось около 2,5 млн. беспризорных и нищих детей. Число осужденных несовершеннолетних преступников в возрасте от 10 до 17 лет за период 1901 1910 гг. увеличилось более чем в 2 раза [16]. Некоторые особенности уголовной ответственности несовершеннолетних были предусмотрены в ст. 41 Уголовного Уложения 1903 года. Уложение различало три возрастных периода - от 10 до 14 лет, от 14 до 17 лет, от 17 до 21 года, и устанавливало в отношении двух первых периодов возможности замены полагающегося по закону наказания мерами принудительного воспитания или его смягчения. В Уголовном Уложении раздел о соучастии явно испытывал влияние немецкого законодательства. Предусматривались две разновидности соучастия: «с предварительным всех или некоторых виновных на то согласием и без оного». Указав на два возможных вида соучастия в Общей части Уложения, законодатель счел необходимым в Особенной части определить следующие групповые образования: заговор, сообщество, скоп, которые различались между собой по моменту окончания деяния, абстрактному или конкретному планированию преступлений и свойст- вами субъективных связей в рамках группы.
В лекциях Н.С. Таганцева к видам соучастия отнесены: «учинение преступления по предварительному сговору или без него, шайка». Общность вины и преступной деятельности, по мнению автора, хотя и влечет за собой солидарную ответственность всех соучастников, но вовсе не уничтожает всякое индивидуальное различие между ними; «жизненная преступная драма, как и воспроизведение жизни на сцене, требуя надлежащего выполнения игры и действия всего персонала, различает, тем не менее, по свойству ролей главных и второстепенных участников, придавая им различную оценку».
Л.М. Зайцев считал, что «из соединения физических и духовных сил ряда лиц в силу состоявшегося между ними соглашения возникает новое единство, которое усиливает противоправность и виновность каждого соучастника». Разработка института соучастия велась с различных позиций: в рамках классического направления (Н.С. Таганцев), антропологического (Д. Дриль), и социологического (И.Я. Фойницкий, В.В. Есипов), что и предопределило множество различных теорий. Однако при этом значительное количество понятий института соучастия дошло до настоящего времени и успешно используется в действующем уголовном законодательстве.
Список литературы Развитие и становление института соучастия несовершеннолетних в дореволюционной России
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). М., 2004.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2007.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. ФЗ РФ от 08.12.2003 N 163-ФЗ, 06.06.2007 № 87-ФЗ с изменениями и дополнениями на 01.09.2007 г.). М., 2007.
- Организованная преступность -2/отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков. М., 1993
- Юшков Ю. Ответственность участников организованных преступных группировок//Социалистическая законность. 1991. № 11.
- Памятники русского права, вып. 1. М., Госюриздат, 1952.
- Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т./под ред. Чистякова Л.И. М.: 1984.
- Воинские артикулы Петра I. М.: ВЮА, 1940.
- Таганцев Н.С. Исследование об ответственности малолетних преступников по русскому праву. СПб., 1871
- Есипов В. В. Очерк русского уголовного права. Часть общая. СПб.,1898.
- Жиряев А.С. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении. СПб., 1850
- Ермаков В.Д., Крюкова Н.И. Несовершеннолетние преступники в России.-М., 1999.
- Фойницкий И. Я. Уголовно-правовая доктрина о соучастии//Юридический вестник. 1891. VII.
- Чубинский М.П. Лекции по уголовному праву. СПб., 1911.
- Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая. Т. 1. 1902.
- Зайцев Л.М. Ответственность при массовых преступлениях. Киев, 1909.