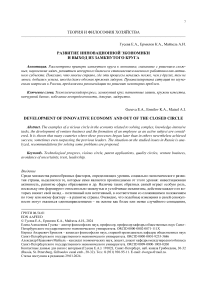Развитие инновационной экономики и выход из замкнутого круга
Автор: Гусева Е.А., Ермилов К.А., Майзель А.И.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Теория и философия хозяйства
Статья в выпуске: 1 (145), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены примеры замкнутого круга в экономике, связанные с решением сложных, наукоемких задач, развитием венчурного бизнеса и становлением наемного работника как активного субъекта. Показано, что многие страны, где эти процессы начались позже, чем у других, тем не менее, добились успеха, иногда даже обогнав прежних лидеров. Проанализирована ситуация по изучаемым вопросам в России, предложены рекомендации по решению некоторых проблем.
Технологический прогресс, замкнутый круг, патентные заявки, кружки качества, венчурный бизнес, избегание неопределенности, доверие, лидерство
Короткий адрес: https://sciup.org/148328346
IDR: 148328346
Текст научной статьи Развитие инновационной экономики и выход из замкнутого круга
Среди множества разнообразных факторов, определяющих уровень социально-экономического развития страны, выделяются те, которые сами являются производными от этого уровня: инвестиционная активность, развитие сферы образования и др. Наличие таких обратных связей играет особую роль, поскольку они формируют относительно замкнутые и устойчивые механизмы, действие каждого из которых вносит свой вклад – позитивный или негативный, в соответствии со сложившимся положением по тому или иному фактору – в развитие страны. Очевидно, что подобные изменения в своей совокупности могут оказаться однонаправленными – на основе как более или менее случайного совпадения,
ГРНТИ 06.54.01
EDN AAFEUD
Елена Алексеевна Гусева – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры общественных наук Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0000-0002-0871-111X
Кирилл Андреевич Ермилов – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры общественных наук
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0000-0001-9233-3686
Александр Исаакович Майзель – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международного бизнеса
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0009-0000-1003-0260
Статья поступила в редакцию 29.01.2024.
так и в связи между соответствующими факторами. Последний вариант представляет особый интерес, поскольку здесь происходит взаимное усиление устойчивости отдельных механизмов. Если результат оказывается полезным для общества, то особых изменений, конечно, не требуется; но в противном случае становится чрезвычайно актуальным вопрос о возможности преодоления статус-кво.
Примеры замкнутого круга в экономике
Развитие инновационной экономики справедливо рассматривается как один из важнейших приоритетов в странах, претендующих на место в группе мировых лидеров. Такое направление развития неразрывно связано с ростом наукоемкости, с массовым решением сложных задач, требующих нестандартного подхода, опирающимся на значительные объемы фундаментальных и прикладных исследований. Использование результатов, полученных за рубежом, неизбежно в силу безальтернативности международной специализации и кооперации, но оно должно сочетаться с непрерывной работой собственных высококвалифицированных специалистов, приводящей к постоянному созданию новых продуктов и технологий. Конкурентное преимущество может быть получено и благодаря использованию дешевых ресурсов, но оно будет обладать минимальной устойчивостью [25]. Отсюда вытекают требования к системе образования, которая должна готовить необходимое количество высококвалифицированных специалистов, а также к условиям профессиональной деятельности и к качеству жизни, которые должны благоприятствовать работе этих специалистов в данной стране и не вынуждать их искать лучшей доли за рубежом.
Вместе с тем, сами сложные, наукоемкие задачи становятся актуальными и вообще возникают только тогда, когда общество заинтересовано в результатах их решения, что определяется перспективами практического применения этих результатов и остротой конкуренции. Странно было бы ожидать от явного аутсайдера технологического прорыва в какой-либо области: не говоря уже о ресурсных ограничениях, ему попросту негде будет применять результаты инновации. В принципе, возможна передача их более развитым в данном отношении странам, но для того, чтобы это происходило в сколько-нибудь заметных масштабах, необходимы тесные связи между разработчиком и потребителем, создающиеся только в рамках холдинговых структур – однако, возникает вопрос, насколько целесообразно для холдинга подобное зарубежное размещение исследовательских и инженерных подразделений. В таких странах существует общественный запрос на более простые проблемы (что никак не связано с величиной необходимых для их решения затрат), а отсюда вытекает другая, более примитивная структура потребности в рабочей силе; система образования не может не подстраиваться под эту структуру.
Таким образом, отказ от системного решения сложных задач ведет к возрастающему технологическому отставанию страны, но сам этот отказ оказывается обусловленным недостаточным уровнем ее развития. Отставание вполне может сочетаться с абсолютным ростом (измеряемым, например, объемом ВВП), однако последний способен сыграть роль разве что «утешительного приза»; иначе говоря, сложившаяся к настоящему времени дифференциация по уровню технологического развития, скорее всего, будет усиливаться. Данное положение носит не столько утвердительный, сколько предположительный характер; для того, чтобы более четко определиться с этой гипотезой, следует оценить дополнительные обстоятельства, имеющие к ней прямое отношение – тогда можно будет говорить об одно- или разно-направленности тенденций. Несомненный интерес с этой точки зрения представляет рассмотрение субъектов экономической деятельности, их взаимосвязей с развитием экономики.
Существенное с точки зрения технологического развития положение связано с начинающими предпринимателями, создающими стартапы с целью продвижения и последующей коммерциализации той или иной инновации, и, в целом, с венчурным бизнесом. Вероятность успешного продвижения идеи обычно мала, что ставит под вопрос целесообразность такой деятельности, когда есть альтернатива в виде стабильной работы по найму. Тем не менее, как известно, в некоторых странах создание стартапов носит массовый характер, и в дальнейшем многие из них приносят коммерческий успех и соответствующее технологическое продвижение. В связи с этим, возникает вопрос о причинах различий между странами в этой области.
Очевидно, определяющим фактором является общественный спрос на новые – в том числе, высокотехнологичные – продукты (что связывает данное явление с первым в нашем списке). Определенную роль играет также связь уровня благополучия с активизацией работников, которые могут, не останавливаясь на участии в управлении, перейти к полной экономической самостоятельности. Но в данном случае важнее другая сторона экономического развития: при его высоком уровне существенно снижаются риски начинающих предпринимателей. Прежде всего, следует упомянуть о мощной финансовой поддержке со стороны разнообразных структур: венчурные фонды, банки, бизнес-ангелы. Но даже неудача стартапа не означает полного крушения надежд, ставящего под сомнение дальнейшие перспективы его создателя, благодаря серьезной социальной защите, обеспечиваемой государством. Это значит, что в странах с высоким уровнем экономического развития обеспечиваются наиболее благоприятные условия для осуществления инновационных проектов, что, в свою очередь, способствует их дальнейшему технологическому прогрессу.
Еще одна важная тенденция – становление наемного работника в качестве активного субъекта экономической деятельности. Значимость данного процесса определяется тем, что он позволяет раскрыть новые резервы роста конкурентоспособности компаний, в том числе, связанные с их технологическим развитием. Представляется очевидным, что он базируется на готовности к подобному изменению и работника, и менеджера, поэтому чрезвычайную актуальность приобретает вопрос об условиях, при которых может сформироваться в более или менее широких масштабах эта комплексная предпосылка.
Как отмечалось ранее [9], углубленное вовлечение работников в деятельность организации, включая появление интереса к участию в управлении, требует высокого уровня экономического развития общества. Пока задача удовлетворения базовых жизненных потребностей актуальна, участие в решении дополнительных по отношению к рабочим заданиям вопросов носит, в лучшем случае, эпизодический характер, не приводя к ощутимым положительным результатам. И, наоборот, когда эта задача утрачивает актуальность в массовых масштабах, открываются новые возможности, возникают новые потребности, в число которых может входить стремление играть более активную роль в своей организации. Указанное явление может быть связано не только с подъемом благосостояния, но и с возникновением чрезвычайной ситуации в организации или в ее внешней среде, преодоление которой требует экстраординарных усилий от всех работников; но эти усилия, скорее всего, будут приложены к областям профессиональной деятельности и, в любом случае, не смогут формировать долгосрочной модели поведения – это будет исключение из правил, но не их изменение.
Значит, есть еще один механизм положительной обратной связи: в экономически развитом обществе создаются наилучшие условия для разносторонней активизации работников, что может повышать качество принимаемых организациями решений, а это, в свою очередь, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию. Итак, существует ряд однонаправленно действующих социальных механизмов, обусловливающих усиление технологической и, следовательно, экономической дифференциации между странами: лидерство развитых стран укрепляется, а остальные попадают в своего рода порочный круг нарастающего отставания. Главный вопрос, возникающий в связи с этим: можно ли разорвать данный порочный круг? Для аргументированного ответа на него представляется разумным обратиться к историческому опыту, т.е. поискать прецеденты соответствующих попыток.
Обзор мировой практики
Взаимосвязь наукоемких задач с развитием экономики в указанном выше виде стала формироваться в ходе промышленной революции, которая началась во второй половине XVIII в. в Великобритании. Наука проявила себя как важнейший фактор технического прогресса, радикально изменившего производство в целом ряде отраслей. Сложилась ситуация, при которой одна страна опередила в важном отношении все остальные и получила, таким образом, определенное преимущество; означало ли это, что остальные угодили в ловушку порочного круга, лишающую шансов догнать лидера? Конечно же, нет: распространение революционных изменений в течение XIX в. на континентальную Европу (включая Россию), Америку и Японию происходило в еще более тесном взаимодействии с прогрессом науки (причем не только в своей стране). Постоянное возрастание роли последней в развитии экономики усиливало общественные запросы по отношению к ней, которые решающим образом ускоряли ее развитие. Данное обстоятельство нашло отражение в афористичном высказывании Фридриха Энгельса о том, что «если у общества появляется техническая потребность, то это продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов» [31, с. 174].
Именно техническая потребность, в основе которой лежат нужды экономики, позволяет избежать упомянутой ловушки и преодолеть образовавшийся разрыв между конкретной страной и лидерами. Пример Южной Кореи, модернизация которой ведет отсчет лишь с 60-х гг. ХХ в., показывает, что даже значительное отставание не обязательно является фатальным; столь же впечатляющим следует признать опыт Китая, который вступил в этот процесс еще на два десятилетия позже. Страна уверенно лидирует по числу поданных ее резидентами патентных заявок – 1,585 млн в 2022 г., в то время, как прежний многолетний лидер – США – остался на второй позиции (506 тыс.); следом идут Япония (405 тыс.), Корея (272 тыс.) и Германия (156 тыс.) [42]. Аналогичный расклад образовался в рамках Договора о патентной кооперации, где Китай также возглавил список с 70 тыс. заявок (войдя в первую десятку лишь в 2005 г. с 2,8 тыс., почти в 17 раз меньше, чем у лидера), США спустились на второе место с 59 тыс., далее – Япония (50,3 тыс.), Корея (22 тыс.) и Германия (17,5 тыс.) [26]. В целом на Азию приходится 67,9% поданных в мире патентных заявок (рост за 10 лет на почти 12%), на Северную Америку – 18,3%, на Европу – 10,3%, на Латинскую Америку – 1,6% (при том, что доля резидентов не достигает 14%) [42].
Перейдем к рассмотрению следующей тенденции. Изменение роли работников связывается, прежде всего, с опубликованными в 50-х гг. ХХ в. идеями Дугласа Макгрегора, который показал мощный потенциал подхода к руководству, альтернативного по отношению к традиционному, опирающегося на инициативу, самоуправление и добровольное принятие дополнительной ответственности. К этому же времени относится появление в Японии кружков качества, предоставивших возможность рядовым работникам вносить вклад в совершенствование деятельности своих компаний. В дальнейшем данное движение распространилось на множество стран, включая США, Великобританию, Нидерланды, Бразилию, Мексику, Корею, Китай и др. [14, с. 82] Высокая популярность его не снижается по сей день, что, безусловно, определяется получаемыми результатами [3]. Это – повышение производительности труда и качества продукции, экономия ресурсов, улучшение условий труда, рост мотивации и др.
Если кружки качества дополняют организационную структуру компании, то другой вариант активизации работников – самоуправление – изменяет ее содержательно. Первый успешный опыт использования такой модели связывается с японскими фирмами, в дальнейшем их примеру последовали сотни крупных и мелких компаний [11, с. 565-566]. Сейчас самоуправляемые команды созданы «во всех возможных отраслях, размерах, культуре и географическом положении» [10].
Венчурный бизнес зародился в США, причем однозначное определение времени, когда это произошло, затрудняется наличием нескольких этапов в его формировании. Во всяком случае, венчурный капитал в современном понимании появился в 1974 г., хотя прообраз его можно найти еще в середине XIX в. в связи с финансированием строительства железнодорожной сети США [38]. На протяжении прошедших с тех пор десятилетий эта страна сохраняет за собой мировое лидерство в данной области, что в значительной степени обусловливает ее научно-техническое превосходство (на ее долю приходится 70% мировой рыночной капитализации глобальных технологических компаний – $17 трлн [39]. Из 1677 американских компаний, ставших публичными с 1978 г. по 2020 г., венчурные компании составили половину, но при этом на их долю пришлось 92% затрат на НИОКР и 81% полученных патентов [38]. В 2022 году американские венчурные фонды, число которых составило 784, привлекли почти $163 млрд [там же].
Другие страны, начав развивать это направление позднее, добились к настоящему времени значительных успехов. Так, если с 2004 г. по 2022 г. объем сделок в венчурном бизнесе вырос в США с $21,8 млрд до $240,9 млрд, то во всем мире – еще сильнее: с $26,4 млрд до $508,1 млрд; таким образом, американская доля, составлявшая 83%, снизилась до 47% [там же]. Правда, в отношении фандрейзинга тенденция менее определенная: с 45% в 2011 г. доля США упала до 20% в 2018 г., а в 2022 г. поднялась до 64% [там же].
Европейские глобальные технологические компании имеют совокупную капитализацию в 12 раз меньшую, чем американские – $1,4 трлн, а вероятность успешного привлечения венчурного финансирования по прошествии 5 лет у технологических стартапов США на 40% выше [39]. Однако, в некоторых отношениях Европа не уступает Новому Свету; там, например, ежегодно создается в среднем 15,2 тыс. новых технологических стартапов против 13,7 тыс. в США [37]. Доля Европы в мировом венчурном капитале увеличилась с 5% два десятилетия назад до 20% в 2023 г.; на уровне ранних стадий Европа сейчас привлекает треть мирового финансирования [33]. Лидером является Великобритания, в которой ежегодно создается примерно четверть всех новых европейских компаний [37]. Из общего объема венчурных инвестиций в 2022 г., составившего $106 млрд, на ее долю пришлось $31 млрд; у Франции – вдвое меньше, далее следуют Германия, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Испания [33].
Примечательно, что 17% новых технологических стартапов создано в 2023 г. за пределами десятки ведущих европейских стран [37].
В Китае капитализация глобальных технологических компаний составила в 2022 г. около $3,5 трлн [там же]. По объему венчурных инвестиций эта страна заняла 2 место в мире –$60 млрд. Значительные объемы вложены также в Индии – $24 млрд, Южной Корее – $15 млрд, Японии– $6 млрд, Сингапуре – $6 млрд, Израиле – $8 млрд и др. [36] Общий объем венчурных инвестиций в Азии достиг $128,1 млрд, превысив европейский ($99,8 млрд); сумма фандрейзинга составила $52,9 млрд, что также превысило европейский уровень, хотя оказалось меньше того же показателя за 2018 г. почти в 4 раза [41].
Изучение местоположения 40 ведущих мировых экосистем стартапов подтверждает предположение о существенной географической диверсификации технологической активности. По итогам 2022 г. 18 из них находились в Северной Америке (Кремниевая долина – 1 место, Нью-Йорк – 2, Бостон – 4, Лос-Анджелес – 6, Сиэтл – 9 и т.д.), 10 – в Азии (Пекин – 5, Шанхай – 8, Сеул – 10, Токио – 12, Сингапур – 18 и т.д.), 8 – в Европе (Лондон – 2, Амстердам – 14, Париж – 15, Берлин – 16, Стокгольм – 21 и т.д.) [40]. Наблюдается определенное соответствие этой характеристики количеству «единорогов»: по результатам 2021 г. (рекордного в данном отношении) в Северной Америке зафиксировано появление 491 компании такого рода, в Азии – 129, в Европе – 113 [36].
Таким образом, несмотря на продолжающееся лидерство США, множество других стран с разных континентов динамично развивается в данном направлении, демонстрируя очередной пример того, что абстрактная конструкция замкнутого круга далеко не полностью предопределяет реальный ход дел. Поскольку выше было показано, что и в других областях сложилась аналогичная ситуация, можно считать ответ на ранее поставленный вопрос положительным: разорвать замкнутые круги можно. Но тогда возникает другой вопрос: каким образом это удается и, главное, есть ли какой-то универсальный рецепт? Любые рациональные рекомендации определяются предполагаемыми причинно-следственными связями между состоянием объекта и мерами воздействия на него. Но, как отмечал Питирим Сорокин, «каузальность между двумя явлениями существует только в определенных рамках и вне этих границ связь либо исчезает, либо радикально меняет свой характер» [28, с. 752]. Действительно, предположение о каузальности базируется на одном из трех оснований: теория; прошлый опыт; аналогия. Если в качестве объекта выступает страна, все они оказываются под сомнением.
Теоретические построения, описывающие общие закономерности развития в духе историцизма и представляющие собой тот или иной вариант эволюционных схем, не оправдали возлагавшиеся на них ожидания как на научный инструмент прогнозирования и конструирования будущего. Карл Поппер охарактеризовал историцизм как попытку «подменить надежду и веру человека, которые порождены моральным энтузиазмом и презрением к успеху, некоей уверенностью, основанной на псевдонауке о звездах, на «человеческой природе» или на историческом предопределении» [24, с. 321]; такая подмена была широко популярна в свое время, но приемлемость ее уменьшалась по мере обнаружения несоответствия подобного подхода реальному ходу событий. Более же специальные теории в гуманитарной области не могут здесь быть применены именно в силу своей специализированности. Опора на прошлый опыт не слишком надежна даже в самой стабильной стране – особенно учитывая, что если она относится к числу отстающих, то этот опыт способен подсказать только то, как делать не надо. Наконец, использование в истории сравнительного метода, с которым связано использование аналогий, чревато отбрасыванием важных (недооцененных или неизвестных) деталей: «Когда культуры превращаются … в сравнимые единицы, они кажутся искусственно созданными в лабораторных условиях стерильными объектами, с которыми можно производить любые эксперименты» [30, с. 162].
Анализируя причины неудачи Вашингтонского консенсуса, содержавшего принципы экономического реформирования в странах Латинской Америки, Африки и Восточной Европы, В.М. Полтерович в качестве самой главной назвал то, что его рекомендации «носят универсальный характер, не зависят ни от уровня благосостояния населения, ни от действующих институтов и степени технологического развития, ни от культуры или предыстории страны» [23]. Нетрудно увидеть, что идея универсальности рекомендаций вытекала как раз из презумпции общности основных характеристик тех разнообразных стран, для которых были разработаны указанные принципы. Рассматриваемые в настоящей статье вопросы достаточно многоаспектны для того, чтобы не повторить аналогичную ошибку, пытаясь определить универсальные действия по решению обозначенных проблем.
Ситуация в России
Россия сохранила в 2022 г. свое пребывание в списке 20 стран, лидирующих по числу патентных заявок, поданных резидентами, заняв 14 место (25,2 тыс.) – между Канадой и Израилем [42]. Однако, на зарубежное патентование пришлось чуть больше 6 тыс. заявок (25%) – последнее место в списке. Близкая структура патентной активности наблюдается у Индии (32%) и Южной Кореи (33%), а у Китая – и вовсе 8%, но у них намного большее общее число заявок: у Индии в два с лишним раза, у Южной Кореи на порядок, у Китая – на полтора. Если рассматривать число заявок по отношению к ВВП, то Россия оказывается на 18 месте, по отношению к численности населения – на 19 [там же]. К тому же, за 10 лет по обоим показателям сложилась негативная тенденция: по первому из них потеря составила 38,7% от исходной величины, по второму – 33,8%; и то, и другое – рекорд в рамках двадцатки.
Кружки качества в нашей стране начали появляться почти в то же время, что и в Японии. Однако, несмотря на многолетние и многочисленные попытки внедрения, широкого распространения эта модель не получила; среди основных причин неудачи называются следующие [3]: пассивность работников, жесткая иерархия управления, неэффективная мотивация, слабая информационная поддержка. Вероятно, возможны другие формы эффективной групповой работы – в конце концов, дело не в конкретных правилах. Однако, например, подход «кайдзен», рассматриваемый то как альтернатива кружкам качества, то как нечто более общее, также сталкивается в России с серьезными проблемами, прежде всего – с проблемой несоответствующего лидерства [4]; очевидно, что она фактически присутствует в перечне причин неудачи кружков качества. Поэтому, если не уходить от задачи активизации работников к другим важным направлениям, содержащимся в упомянутых и других подходах, этот перечень обойти не удастся.
В России в 2022 г. действовали 137 венчурных фондов, располагавших капиталом в $3,76 млрд; объем инвестиций в российские компании составил $158 млн, причем эта величина изменялась в весьма узком диапазоне с 2015 г. (а число инвестиций упало с 185 до 28) [21]. Расчеты, выполненные по другой методологии, дают более высокий результат – $475 млн инвестиций, что, по существу, меняет немного; в единственном заметном российском центре стартапов – Москве – венчурных инвестиций осуществлено примерно в 80 раз меньше, чем в европейском лидере – Лондоне [33].
Есть основания связывать сложившееся положение с известными внешнеполитическими обстоятельствами и выход из него – с их изменением [17]. При этом, не стоит ограничиваться последними двумя годами, негативные тенденции сложились раньше. Еще в 2015 г. отмечалось [7], что российские венчурные компании почти перестали привлекать инвестиции по следующим причинам: дороговизна денег; отсутствие возможностей для выхода; отток иностранного капитала; международные санкции. Все эти факторы, с небольшими добавлениями, фиксировались и в следующем году [16], а впоследствии они стали только ощутимее. Это объясняет, почему даже в 2021 г., самом благополучном для отечественного (и не только) венчурного бизнеса, лишь 24% опрошенных российских венчурных инвесторов связывали свои приоритетные интересы с РФ [15].
Каковы же шансы на улучшение ситуации? Поскольку перечисленные факторы, несомненно, крайне затрудняют ведение венчурного бизнеса, напрашивается экономический путь, т.е. вливание государством ресурсов: льготное кредитование ранних и поздних стадий, а также выделение денег на приобретение состоявшихся предприятий способны, в принципе, компенсировать дефицит частного капитала, включая иностранный. Эта финансовая помощь не будет постоянной, т.к. по мере развития данной сферы она начнет привлекать все большее внимание частных инвесторов, в т.ч. из-за рубежа. Роль последних может стать даже основной – как, например, в Индии, где 80% венчурных инвестиций имеют иностранное происхождение [34]. У такого пути есть, однако, крупный недостаток: потратив большие ресурсы (речь должна идти о миллиардах долларов) и предприняв значительные организационные усилия, можно ничего толком не получить.
Последнее соображение относится не только к венчурному бизнесу, но и к рассматриваемой сфере в целом. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. отводила большую роль институтам развития [29]; в течение 2006–2020 гг. общие расходы бюджета на них составили 3,6 трлн руб., в т.ч. на инновационные институты (РФФИ, «Сколково», «Роснано» и др.) – более 965 млрд руб. [27]. Однако, расходы эти оправдать не удалось: ни по инновационной активности предприятий, ни по выпуску инновационной продукции продвижения не произошло [там же]. Затратный путь может быть хорош – но только в том случае, если нет дополнительных обстоятельств (помимо нехватки ресурсов), препятствующих развитию в желательном направлении; в противном случае картина будет напоминать энергичное давление на педаль газа в автомобиле при зажатых тормозах. Отсюда следует, что первоочередная задача – найти эти обстоятельства и определить возможность влияния на них.
Совершенно справедливо относить к числу таковых особенности бизнес-ментальности и отношения к риску [13]. Безусловно, склонность к принятию рискованных решений необходима не только начинающим предпринимателям, но и инвесторам (в т.ч. покупателям успешного бизнеса), а также руководителям университетов и компаний и государственным чиновникам. В России фиксируется одно из самых высоких в мире значений по шкале «избегание неопределенности» [35]; при всей условности количественных оценок такое высокое значение не может быть случайным. Венчурный бизнес и избегание риска исключают друг друга – пускай не полностью, но в достаточной мере для того, чтобы обеспечить постоянное отставание.
Негативное воздействие данного показателя не ограничивается предпринимательской сферой. В условиях неуклонного возрастания турбулентности в общественной жизни трудно переоценить значение способности менеджеров адаптироваться к изменениям внешней среды. Адаптивность тесно связана с толерантностью к неопределенности, без восприятия неопределенности как нормы нельзя быть готовым к постоянным изменениям. Боязнь неопределенности приводит к жесткой регламентации деятельности организаций, а это создает не лучшие условия для инновационных прорывов. Очень высокое значение «дистанции власти», характерное для России [там же], усиливает роль иерархического подхода – неудивительно, что лишь 26% опрошенных работодателей включили адаптивность в число ключевых навыков руководителя [18]. Вместе с тем, сама возможность улучшения положения по этому показателю может зависеть от экономического положения в стране и тенденций его изменения. Избегание неопределенности в России имеет сомнительные перспективы снижения до тех пор, пока не удастся выйти из стагнации, начавшейся в 2014 г. [20]. В таком случае необходимым условием повышения адаптивности менеджмента является наличие положительных тенденций в экономике; при отсутствии таковых образуется очередной замкнутый круг, т.к. недостаточно эффективный менеджмент не создает предпосылок для их возникновения. Добавим, что дело не только в руководителях, поскольку высокая адаптивность важна также для работников, предпринимателей и других социальных групп.
Перечисленные причины неудачи с кружками качества различаются по устойчивости. В самом деле, информационную поддержку обеспечить не так уж и трудно – было бы желание обеих сторон. Немногим сложнее задача внешней мотивации, в отличие от внутренней, которая формируется не только достигнутым уровнем благосостояния, но и готовностью к принятию самостоятельных решений и ответственности за свою работу, т.е. фактически к принятию на себя дополнительных рисков. Организационную структуру можно перестроить быстро, но к проектируемому результату должен быть готов весь персонал; гипертрофированная дистанция власти не может не сказываться на активности работников, в каких бы формах та ни выражалась. Она формирует именно такие модели лидерства, которые соответствуют общественным ожиданиям, и отклонение от них вызывает фрустрацию подчиненных; одной из первоочередных проблем становится доверие, опирающееся на соответствующее лидерство [8]. Наконец, что касается пассивности, это – не столько самостоятельная причина, сколько результат воздействия предыдущих факторов.
Проблемы с венчурным капиталом, стартапами и т.п. имеют непосредственное отношение к развитию прикладной науки и технологий и, тем самым, к патентной активности. Из приведенной ранее цитаты Фридриха Энгельса можно сделать правильный вывод о том, что при отсутствии у общества технической необходимости темпы научного прогресса высокими не будут – именно это и определяет скромные достижения российских разработчиков в области патентования. Конечно, есть и другие движущие в том же направлении обстоятельства, например, сложности с оценкой интеллектуальной собственности и связанное с этим нежелание банков учитывать ее при оценке заемщиков, сравнительно высокие затраты на оформление патента [6]. Но важнее то, что, во-первых, на внутренних российских рынках невелик спрос на отечественные инновации, т.к. конкуренция преимущественно слабая и сами рынки невелики, а, во-вторых, в зарубежном патентовании нет большой необходимости из-за специфической структуры российского экспорта. Отсюда следует, что необходимо обеспечить также поддержание нормальной конкуренции внутри страны и расширение внутреннего спроса; структура же экспорта определяется конкурентоспособностью производимых продуктов, которая зависит от тех же двух величин.
Итак, набор характеристик, положение по которым должно измениться, включает: рыночные (внутренний спрос и внутренняя конкуренция), межличностные (доверие в обществе, дистанция власти и эффективное лидерство), внутриличностные (отношение к риску). Подчеркнем, что все они равно важны и рыночные не имеют никакого приоритета по отношению к прочим, как бы эфемерным. Ничего в этом смысле не изменилось с начала ХХ в., когда Макс Вебер отмечал: «Сведение к одним экономическим причинам нельзя считать в каком бы то ни было смысле исчерпывающим ни в одной области культуры, в том числе и в области «хозяйственных» процессов» [5, с. 561]. Поэтому возможное упование на экономическую реформу, которая изменит «главное» (например, обострит конкуренцию) и, тем самым, переломит ситуацию, беспочвенно – разве что все остальные характеристики зависят именно от этой.
Возможности для желаемого изменения
Улучшение положения в результате постепенного эволюционного саморазвития возможно, но, не говоря о том, что это займет неопределенное время, нужно, чтобы хотя бы наметились соответствующие тенденции – пока что их не видно. Не исключен еще вариант быстрого рывка под воздействием каких-то внешних по отношению к рассматриваемой области сил, которые случайно либо ускоряют его, либо разворачивают в другую сторону; истории подобные случаи известны. Например, упоминая о внезапном развитии немецкой индустрии в 1870-1874 гг., Р. Арон оценивает его как случайное «по отношению к предыдущему состоянию экономики, поскольку в основе этого развития лежит возмещение ущерба, нанесенного войной» [1, с. 368]. Недавняя пандемия подтолкнула процесс создания самоуправляемых команд, придала ему дополнительный импульс в сложившемся ранее направлении [8]. Но рассчитывать на подобные форс-мажорные явления не стоит, особенно если они охватывают весь мир; тогда локальные преференции возникают как раз в тех странах, где подобные модели уже более или менее приняты.
Поэтому единственный разумный путь в нашем случае – осуществление долговременных целенаправленных усилий по изменению рыночной среды и психологического фона поведения в организациях. Такое заявление может показаться несколько утопичным, но все зависит от того, в какой степени перечисленные характеристики являются управляемыми. В наибольшей степени такому требованию отвечает рыночная группа: и конкуренция, и спрос поддаются воздействию со стороны государства. В первом случае в качестве инструмента выступает уровень экономической свободы (например, в известной трактовке журнала «Economist») в сочетании с антимонопольным регулированием, на рост спроса государство тоже способно влиять с помощью соответствующей денежно-кредитной политики.
Способно ли государство оказать необходимое влияние на другие факторы? Фактически из положительного ответа на этот вопрос исходили авторы доклада, посвященного социокультурным факторам инновационного развития РФ [2], где сформулирован целый ряд конкретных рекомендаций. Подавляющая часть их возлагает именно на государство осуществление разнообразных мер: от изменения модели отношений в школе и поддержки деятельности профсоюзов до предоставления социального жилья и развития каналов коммуникации между властью и обществом. Возникает, однако, подозрение, что все эти предложения, даже в случае полной реализации, ничего принципиально не изменят ни по одному из рассматриваемых факторов, т.к. не содержат главного – и вовсе не обязательно, чтобы это главное было у них общим. Дело не в перечислении обстоятельств, благоприятствующих желательным изменениям, а в выявлении того, что им препятствует, или, другими словами, в определении необходимых условий.
Таким условием для повышения толерантности к неопределенности является, по нашему мнению, творчество. При всем многообразии определений данного понятия, несомненно одно: оно означает прокладывание нового пути, выбор последовательности действий, где не только результаты не вполне предсказуемы, но и сами действия. Конечно, можно сказать, что, наоборот, именно спокойное отношение к неопределенности есть условие творчества, но противоречия здесь нет: человек, занимающийся творческой работой, просто вынужден вырабатывать в себе такое отношение. Возникает очередной вопрос: что же толкает его на эту работу? Ответ здесь, похоже, единственный: свобода. «Развитие дея- тельности по собственной инициативе как единица творчества … является тем путем, который позволяет преодолевать ситуации неопределенности» [22]. Перечисленные ранее группы: работники, менеджеры и предприниматели – должны располагать реальной свободой действий, предполагающей ограниченную только правовыми нормами инициативу и ответственность. Регулирование ответственности в соответствии с расширяющимися возможностями проявления инициативы направит действия людей в конструктивное русло. Симптоматично, что, согласно опросу российских работодателей [18], творческий подход не относится к ключевым навыкам руководителя – только 6% участников опроса высказали иную точку зрения.
Учитывая, что сегодня государство практически полностью определяет степень свободы в обществе, может показаться, что этот путь не сильно отличается от упомянутого выше, но между ними есть большая разница. Здесь речь идет не об осуществлении множества программ с обильным финансированием, а о высвобождении неиспользуемого огромного потенциала; требуются не разнообразные ресурсы, а то, что называется политической волей. Важнейшую роль при принятии соответствующих решений играет горизонт планирования, который тем или иным образом соотносится с ожидаемыми сроками осуществления желаемых изменений. Согласно ряду исследований, «институциональное доверие и социальный капитал поддаются изменениям в краткосрочном периоде, избегание неопределенности – в среднесрочном, а дистанция власти, самая инертная характеристика, – только в долгосрочном периоде» [2, с. 72-73]. Таким образом, при хотя бы среднем горизонте планирования возникают рациональные основания для управляемого изменения отношений государства с обществом и, тем самым, для придания мощного импульса инновационному развитию страны.
Что касается дистанции власти, то в настоящем контексте имеется в виду ее первоочередное сокращение в масштабах компаний – именно на этом уровне возникает главное препятствие для любых форм активизации работников. Этот психологический разрыв преодолевается с помощью осознания общности – прежде всего, общности интересов – работников и менеджмента, причем такое осознание должно происходить и у тех, и у других; определенный опыт здесь уже имеется (см., например, [19]). Такое изменение явно не требует длительных сроков, хотя, в конечном счете, оно не может не быть связано с изменением в более широких масштабах.
Аналогичным образом, доверие проявляется на разных уровнях и всегда в очень большой степени зависит от лидеров, которые выступают в качестве как субъекта этого отношения, так и объекта. Новейшая история подтверждает, что к лидерам на институциональном уровне оно способно меняться достаточно быстро, причем в любую сторону. В рамках организаций положение уже сейчас выглядит неплохо: по данным за 2021 г. [32], в РФ работодателю доверяли 71% работников (при среднем значении по всем рассмотренным странам 77%). Интересно, что при этом доверие к бизнесу в целом оказалось минимальным среди всех стран – 34%, да и к другим социальным институтам оно весьма скромное. Разница между этими значениями (37%) является рекордной, причем с большим отрывом, что говорит о необычно развитом подходе «свой – чужой» и может быть квалифицировано как ксенофобия.
Вместе с тем, доверие должно быть взаимным: лидерам нужна уверенность в том, что работники будут добросовестно следовать целям и миссии компании, т.е. знать их и принимать как высшие приоритеты собственной деятельности. В то же время, именно от них и зависит такая настроенность работников, и это добавляет значимости и сложности позиции лидера. Принципиальные требования к ней, связанные с некоторыми современными тенденциями, рассмотрены нами ранее [8]; здесь отметим только, что лидерство образует фундамент для реализации желаемых явлений, связывая их воедино: без вовлеченности работников, создаваемой лидерами, «творческие люди уходят, … а доверие, энтузиазм и инициатива засыхают на корню» [12, с. 38]. Это еще раз подчеркивает необходимость рационального подхода к изменениям, имея в виду как воздействие на все выявленные факторы без исключения, так и привязку предпринимаемых шагов ко времени.
Заключение
Мировая практика показывает, что догоняющее технологическое развитие – предприятие вполне реалистичное, хотя и сложное. На этом пути встречаются разнообразные ловушки и замкнутые круги, но они не представляют собой непреодолимых препятствий. Главное – не полагаться на изобилие ресурсов (своих или заемных – не столь важно), а выявить внутренние факторы, препятствующие развитию по желаемым направлениям. Государство должно взять на себя инициативу по разработке соответствующих мер, но в осуществление этих мер необходимо вовлечь, помимо самого государства, широкие слои населения страны, включая предпринимателей, менеджмент организаций и их работников. При этом, дело, конечно, не в декларациях, призывах и отчетности, а в создании условий, требующихся для продвижения. Есть основания полагать, что в нашей стране такое продвижение может произойти намного быстрее смены одного поколения.
https://storage.strategy24.ru/files/news/201709/5259f88f854b48c8ff2b5c6d30c6460c.pdf (дата обращения 18.01.2023).
Список литературы Развитие инновационной экономики и выход из замкнутого круга
- Арон Р. Избранное: введение в философию истории. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. 543 с.
- Аузан А.А., Авдиенкова М.А., Андреева Д.А. и др. Социокультурные факторы инновационного развития и успешной имплементации реформ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://storage.strategy24.ru/files/news/201709/5259f88f854b48c8ff2b5c6d30c6460c.pdf (дата обращения 18.01.2023).
- Белостоцкая Н. Круг качества. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kachestvo.pro/kachestvoupravleniya/instrumenty-menedzhmenta/krug-kachestva (дата обращения 20.12.2023).
- Вагенлейтер А. Что мешает развитию кайдзен-деятельности в России? Опрос экспертов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://algoritminfo.ru/aleksandr-vagenlejter-chto-neobhodi (дата обращения 05.01.2024).
- Вебер М. «Объективность» познания в области социальных наук и социальной политики // Культурология.ХХ век: антология. М.: Юрист, 1995.
- Виноградова Е. Почему интеллектуальная собственность в России не продается. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/06/05/803013-intellektualnaya-sobstvennost (дата обращения 12.01.2024).
- Голубович А. Венчурный капитал в России: (не)доступность и (не)востребованность. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/306227-venchurnyi-kapital-v-rossiinedostupnost-i-nevostrebovannost (дата обращения 07.01.2024).
- Гусева Е.А., Майзель А.И. Менеджмент и пандемия: проблемы и перспективы // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 1 (133). С. 27-35.
- Гусева Е.А., Майзель А.И. Философия новой экономической парадигмы // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2021. № 3 (129). С. 12-17.
- Даг Киркпатрик: самоуправление – ответственность каждого. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://бизнессосмыслом.рф/articles/dag-kirkpatrik-samoupravlenie-otvetstvennost-kazhdogo (дата обращения 26.01.2024).
- Дафт Р. Менеджмент. СПб.: Питер, 2000. 832 с.
- Дианин-Хавард А. Нравственное лидерство. М.: Лидерпром, 2008. 208 с.
- Иванов Н. Стартап на экспорт: 8 различий венчурного мира США и России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.forbes.ru/tehnologii/337017-startap-na-eksport-8-razlichiy-venchurnogo-mira-ssha-i-rossii (дата обращения 21.12.2023).
- Исикава К. Японские методы управления качеством. М.: Экономика, 1988. 199 с.
- Исследование российского рынка венчурных инвестиций. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vcbarometer.ru (дата обращения 07.01.2024).
- Исследование Venture Barometer Russia 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://datainsight.ru/venturebarometer2016 (дата обращения 07.01.2024).
- Кинякина Е., Тюняева (Бочкарева) М. Кирилл Варламов: «Венчурный рынок в России, в принципе, в коме». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/technology/characters/2023/06/13/979865-venchurnii-rinok-v-rossii-v-kome (дата обращения 07.01.2024).
- Костенко Я. Работодатели назвали ключевые навыки для топ-менеджеров // Ведомости, 12.04.2023.
- Кравченко И., Подцероб М. Компании пытаются ликвидировать дистанцию между начальниками и подчиненными. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2014/07/16/rossiyanin-lyubit-ierarhiyu (дата обращения 21.01.2024).
- Латова Н.В. Культурная специфика россиян (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеда). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-spetsifika-rossiyanetnometricheskii-analiz-na-osnove-kontseptsii-g-hofsteda/viewer (дата обращения 23.12.2023).
- Обзор российского рынка венчурных инвестиций. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA-yearbook-2022-Russian-PE-and-VC-market-review-ru.pdf (дата обращения 07.01.2024).
- Пирлик Г.П., Богоявленская Д.Б. Творчество как путь преодоления неопределенности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-kak-put-preodoleniya-neopredelennosti (дата обращения 20.01.2024).
- Полтерович В.М. К руководству для реформаторов: некоторые выводы из теории экономических реформ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-rukovodstvu-dlya-reformatorovnekotorye-vyvody-iz-teorii-ekonomicheskih-reform (дата обращения 23.01.2024).
- Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. 528 с.
- Портер М. Международная конкуренция. М.: Альпина Паблишер, 2016. 947 с.
- Продолжение роста числа международных заявок на патенты несмотря на трудности в 2022 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2023/article_0002.html (дата обращения 28.12.2023).
- Соколов А. Институты развития провалили инновации // Ведомости, 02.03.2021.
- Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб.: РХГИ, 2000. 1056 с.
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/docs/9282 (дата обращения 15.01.2024).
- Шидер Т. Возможности и границы сравнительных методов в исторических науках // Философия и методология истории. М.: Прогресс, 1977.
- Энгельс Ф. В. Боргиусу // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 39. М.: Издательство политической литературы, 1966.
- Edelman Trust Barometer 2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2022-01/2022%20Edelman%20Trust%20Barometer%20FINAL_Jan25.pdf (дата обращения 22.01.2024).
- Europe. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dealroom.co/guides/europe (дата обращения 06.01.2024).
- Foreign Venture Capital Firms in a Cross-Border Context: Empirical Insights from India. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/22/6265 (дата обращения 15.01.2024).
- Geert Hofstede. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimensiondata-matrix (дата обращения 08.01.2024).
- Global. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dealroom.co/guides/global (дата обращения 06.01.2024).
- Investing in Europe: Private Equity Activity H1 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.investeurope.eu/research/activity-data (дата обращения 24.12.2023).
- NVCA 2023 Yearbook. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nvca.org/wp-content/uploads/2023/03/NVCA-2023-Yearbook_FINALFINAL.pdf (дата обращения 23.12.2023).
- State of European Tech 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.investeurope.eu/research/activity-data (дата обращения 24.12.2023).
- The Global Startup Ecosystem Report 2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://startupgenome.com/article/global-startup-ecosystem-ranking-2022-top-30-plus-runners-up (дата обращения 26.12.2023).
- Venture Pulse Q42022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2023/01/venture-pulse-q4-2022.pdf (дата обращения 07.01.2024).
- World Intellectual Property Indicators 2023. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://inicpatent.ru/doc/wipo_pub_941_2023.pdf (дата обращения 03.01.2024).