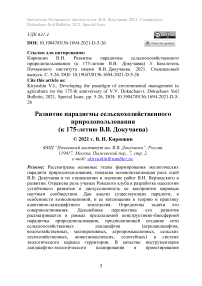Развитие парадигмы сельскохозяйственного природопользования (к 175-летию В.В. Докучаева)
Автор: Кирюшин В.И.
Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil
Рубрика: Специальный номер
Статья в выпуске: S1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены основные этапы формирования экологических парадигм природопользования, показана основополагающая роль идей В.В. Докучаева в их становлении и значение работ В.И. Вернадского в развитии. Отражена роль ученых Римского клуба в разработке идеологии устойчивого развития и дискуссионность ее восприятия мировым научным сообществом. Дан анализ существующих парадигм, в особенности коэволюционной, и ее воплощения в теорию и практику адаптивно-ландшафтного земледелия. Определены задачи его совершенствования. Дальнейшая перспектива его развития рассматривается в рамках предлагаемой конструктивно-биосферной парадигмы природопользования, предполагающей создание сети сельскохозяйственных ландшафтов (агроландшафтов, водохозяйственных, мелиоративных, агропромышленных, сельских лесохозяйственных, животноводческих, селитебных) в системе экологического каркаса территории. В качестве инструментария ландшафтно-экологического планирования и проектирования рассматривается группировка экологических функций ландшафта и механизмы трансформации их в социально-экономические функции.
Ноосферная, коадаптивная, конструктивно-биосферная, экологическая, парадигма, функции ландшафтов
Короткий адрес: https://sciup.org/143177489
IDR: 143177489 | DOI: 10.19047/0136-1694-2021-D-5-26
Текст научной статьи Развитие парадигмы сельскохозяйственного природопользования (к 175-летию В.В. Докучаева)
Задача оптимизации природопользования приобретает обостренную актуальность, а ее решение со временем все более осложняется. Как научная проблема она была инициирована В.В. Докучаевым (Докучаев, 1899) около 130 лет назад. Обобщив опыт земледельческих экспансий XIX века на юге России, В.В. Докучаев раскрыл закономерности и причины деградации почв и ландшафтов. Анализируя последствия сельскохозяйственной деятельности, осложненные общинно-крепостническими отношениями, он показал опасность природно-антропогенной катастрофы и впервые сформулировал природоохранную идеологию природопользования. Сущность ее, или парадигма, определялась системным подходом к изучению природы как к “единому целому, отдельные части которого находятся в постоянном взаимодействии и развитии”. Призывая к целостному видению природы, В.В. Докучаев был озабочен искусственным ее расчленением в рамках развивающихся наук, изучавших “отдельные тела, явления, стихии”, и обосновывал необходимость развития “учения о тех соотношениях и взаимодействиях (а равно и законах, управляющих вековыми изменениями их), которые существуют между так называемой живой и мертвой природой, с одной стороны, и человеком со всеми многообразными проявлениями, с другой – соотношениях, важнейшие из которых приурочены к земле и земледелию…”.
Определив суть нового учения, В.В. Докучаев заложил его основы в виде представлений о законах природы, о почве как об особом теле природы, о почвоведении, которое лежит в центре учения о соотношениях между живой и мертвой природой, о типах местной природы (ландшафтах). В соответствии с этой парадигмой, которую впоследствии В.И. Вернадский (Вернадский, 1960) развил в ноосферную, В.В. Докучаев предложил модель землепользования, в основу которой были положены следующие позиции:
-
- определение оптимального соотношения пашни, лугов, леса и воды в соответствии с местными природными и социально-экономическими условиями;
-
- регулирование стока рек, оврагов и балок;
-
- регулирование водного хозяйства на водораздельных пространствах;
-
- приспособление сортов, приемов обработки почвы к местным условиям.
Ноосферная идеология природопользования Докучаева –
Вернадского намного опередила время, в течение которого господствовала природопокорительная парадигма. Лишь в 80-х годах ХХ века наступило осмысление ее последствий в виде региональных экологических катастроф. Этому способствовали работы ученых Римского клуба, а в 1992 г. Сессией ООН в Рио-де-Жанейро была принята “Декларация по окружающей среде и развитию” и “Повестка дня на XXI век – программа перехода к устойчивому развитию”.
После издания этих документов появились различные парадигмы устойчивого развития, отражающие определенные аспекты природопользования, но общей парадигмы в качестве доминирующего взгляда на мир, определяющего общую систему норм и запретов, не сложилось. Главная причина недостаточного научного обеспечения мировоззренческой парадигмы при огромном количестве научных знаний и открытий заключается в том, что вся их совокупность не объединяется в единую мировоззренческую концепцию, не дает целостного видения мира, как не дают представления о целом мозаичном панно отдельные, разбросанные элементы мозаики (Олейников, 2018) . Это объясняется узкой специализацией ученых, стесненных одномерным видением мира в рамках частных наук, где сами по себе новые факты анализируются вне их взаимосвязей с мировым целым.
Ответ на экологические вызовы связан с интеграцией науки. Традиционный дисциплинарный подход постепенно сочетается с проблемным подходом. Формируются науки и междисциплинарные направления исследований (социальная экология, геоэкология, ноосферология, синергетика и др.), ориентированные на познание общих закономерностей, управляющих процессами самоорганизации. На это обстоятельство обращал внимание В.В. Докучаев, призывая к созданию интегрирующей науки. Сегодня уже на уровне нового множества наук возникает целесообразность превращения “Природопользования” в интегральную парадиг-мальную науку и образовательную дисциплину базового значения.
Очевидно, формирование идеологии природопользования во всех ее аспектах требует организационных усилий, что является безусловной прерогативой Российской академии наук.
СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ПАРАДИГМ
Современные представления о природопользовании развиваются в широком диапазоне от природопокорительной парадигмы к ноосферной с различными гипотетическими этапами. Антропоцентрический период природопользования с сугубо прагматическим отношением к природе продержался до 70-х годов двадцатого века. Впервые понятие глобального экологического кризиса сформулировано в работах Римского клуба – неформальной, неправительственной организации, созданной в 1968 г. и объединившей около 80 ученых – математиков, социологов, экономистов, специалистов по теории управления и др. В этих работах указывалось на угрозу острого кризиса во взаимоотношениях человека и природы в случае сохранения современных тенденций развития общества. За время работы клуба в нем были заслушаны доклады ученых разных стран, посвященные прогнозированию различных аспектов мирового развития.
Американскими социологами – У. Каттоном и Р. Данлэпом (Catton, Dunlap, 1978) – были сформулированы различия между старой антропоцентрической и новой экологической парадигмами по трем позициям:
-
- в отличие от принципа исключительности человека по отношению к остальным животным, он является одним из многих живых существ, включенных в глобальную биофизическую среду;
-
- в отличие от уверенных императивов культуры и технологии новая парадигма постулирует сложную и не всегда предсказуемую зависимость человека от биофизической среды;
-
- в отличие от представлений о бесконечном социальном прогрессе, обусловленном научно-техническим и культурным процессом, в новой парадигме человек ограничен экологическими законами.
Особым авторитетом пользовался труд Д. Медоуза с соавторами (Медоуз и др., 1994) “Пределы роста”, который издавался на многих европейских языках. Мировая модель, которая рассматривалась автором, включала в себя пять основных глобальных принципов: быструю индустриализацию, рост численности населения, нехватку продуктов питания, истощение запасов невозобновимых ресурсов, деградацию природной среды.
Этими и многими другими работами была подготовлена платформа для декларации устойчивого развития, провозглашенной на конференции ООН в Рио-де-Жанейро. Эта декларация породила огромную литературу, в которой обсуждается множество задач, в том числе:
-
- определение экологических императивов взаимодействия общества и природы;
-
- переосмысление проблемы взаимодействия общества и природы в эпоху становления новых нано-, био-, инфо-, когнито-социотехнологий и их конвергенции;
-
- взаимодействие общества и природы в связи с развитием глобализации;
-
- переход от традиционных принципов и методов природопользования к системным, коэволюционным, синергетическим методологиям;
-
- представления о пределах роста, гармонизация экономической экспансии и экологических лимитов;
-
- переход от доминирования отношений господства, конкуренции противостояния к идеалам сотрудничества, кооперации, сосуществования;
-
- переосмысление роли симбиоза и конкуренции в эволюции биосферы;
-
- модернизация представлений об экологическом воспитании и образовании;
-
- проблема соотношения глобализации и экологизации современного общества;
-
- формирование новой демографической политики;
-
- развитие мировоззрения, в особенности его социальногуманитарной составляющей, в связи с изменением научной картины мира.
Отношение к декларации устойчивого развития неоднозначно. Нередко отмечается некоторая ее иллюзорность. В частности Е.А. Позаченюк и Е.И. Ергина (2004), отмечая социальную значимость декларации устойчивого развития, ориентацию на предотвращение экологических издержек хозяйствования вместо борьбы с последствиями, считают, что ее положения слишком идеальны и во многом выглядят как прекрасная, но утопическая идея.
Особо дискутируется ноосферная идеология В.В. Докучаева – В.И. Вернадского. Она воспринимается как идеальная гипотетическая модель природопользования. На ее основе разрабатываются различные концепции, которые могут стать парадигмами на переходе к ноосферному природопользованию. Термин ноосфера (сфера разума) трактуется неоднозначно. В отличие от довольно распространенного упрощенного толкования его как постепенного освоения человеком биосферы, по В.И. Вернадскому, ноосфера – это результат направленного развития, направляемого силой Разума. Это потребует специальной организации общества, создания специальных структур, которые будут способны обеспечить это совместное согласованное развитие. В этой связи Н.Н. Моисеев (1990) считает предпочтительным говорить не о ноосфере, а об эпохе ноосферы, когда человек уже сможет разумно распоряжаться своим могуществом и обеспечить также взаимоотношение с окружающей средой, которое позволит развиваться и обществу, и Природе.
По Н.Н. Моисееву, узловой вопрос ноосферной идеологии – направленное развитие общества и окружающей среды. Началом его должно быть определение целей и границы запретов на основе национальных и международных научных программ. В научнообразовательном обеспечении подчеркивается особое значение создания новой эколого-экономической теории и экологического просветительства. “Утверждение “климата приоритета”, в котором принципы гармонического взаимодействия с природой будут занимать главенствующее место, позволит утвердиться и принципам экологического планирования”. Соответственно должны быть изучены допустимые нагрузки, которые могут выдержать биосфера и люди, проживающие в этом регионе. Только после этого, сообразуясь с восстановительными возможностями региона, с сохранением его целостности, как Ойкумены, и живущих в нем людей, можно планировать то или иное промышленное и сельскохозяйственное развитие и определять допустимый уровень удовлетворения потребностей.
Характер природопользования существенно различается в различных странах и социально-экономических системах, но ре- зультат близок. Парадигму природопользования в СССР некоторые авторы (Яницкий, 2006) называют “парадигмой системной исключительности”, включающей следующие императивы:
-
- аксиологический императив – высший тип развития общества, к которому должны стремиться все другие, способность преобразовать весь социальный или природный мир;
-
- тотальная управляемость природой, людьми, культурой;
-
- бесконечное прогрессивное развитие, преодоление любых ограничений;
-
- примат системы над средой;
-
- примат идеологии над культурой, человеческая природа должна быть переделана в соответствии с коммунистической идеологией, объем “отходов” природного, человеческого и культурного материала значения не имеет;
-
- геополитический императив, окружение враждебным миром.
В России, как отмечает О.Н. Яницкий (2006) , после начала перестройки властвующая политическая элита стала силовым образом внедрять в жизнь сконструированный по рецептам западных советчиков “либеральный проект”. Академическая наука была отлучена от возможности влиять на процесс трансформации. Имевшийся в мире интеллектуальный багаж парадигмального анализа был просто отброшен. В конечном итоге, по мнению этого автора, в стране в качестве парадигмы переходного периода сложилась ресурсная, истощительная, а не воспроизводственная, накопительная парадигма. Доминирующий взгляд на мир, лежащий в ее основе, – это взгляд на природный ландшафт и социальное освоение пространства, которое можно в очередной раз реконструировать, теперь уже под новый – либеральный проект. Централизация, вертикаль, а не самоорганизация снизу, монополия, а не разнообразие конкурирующих сил лежат в ее основе, гражданское общество трактуется как встроенное в государственную машину. Господствующими являются потребительские ценности, утилитарное отношение к природе и человеку, очевиден примат рыночной идеологии над культурной.
Процесс экологизации хозяйственной деятельности искусственно тормозится вследствие доминирования экономических приоритетов, насаждаемых квазилиберальной идеологией свободного рынка. При этом игнорируются как экологические, так и экономические потери. Свободный рынок регулирует в основном отношения прибыли, в погоне за которой все средства хороши, а капиталы перетекают в страны с развитой экономикой, оставляя менее успешным роль сырьевых придатков с соответствующими экологическими последствиями.
Неизбежное движение к экологической парадигме связано с переходом от ресурсно-центрированной к интеллектуально-центрированной парадигме общественного развития и ограничением материальных потребностей.
В последние годы в России активизировалась деятельность по разработке концепций природопользования. В числе таковых представляет интерес коадаптивная парадигма природопользования (Позаченюк, Ергина, 2004) , суть которой авторы видят в такой организации территории, при которой регион функционировал бы как целостная устойчивая система, где хозяйственная подсистема согласована с природной по принципу совместимости компонентов естественного ландшафта. Начальный этап осуществления этой парадигмы должен состоять в переводе современного природопользования с нормативно-контролирующей основы на прикладную научно-исследовательскую. Практическое выражение коадаптивной парадигмы природопользования заключается в базировании ее на механизме коадаптации хозяйственной подсистемы с природой. При этом отмечается особая роль средообразующих геосистем в качестве стабилизирующих. Становление ко-адаптивной парадигмы авторы связывают с развитием информатизации общества, экологическим образованием и воспитанием и ноосферно-экологическим мировоззрением.
Во многих работах на эту тему особо подчеркивается, что коэволюционный подход предполагает сближение материальной и технической деятельности с духовной, синтез науки, образования, этики, искусства, техники и экономики, согласование человеческого развития и природной самоорганизации.
Большое значение придается экоэтике для построения нравственно обоснованной стратегии, на основе которой люди могли бы объединиться в целях обеспечения устойчивого будущего че- ловечества и планеты Земля. Экоэтика предполагает взаимоотношения не только между людьми, но и между человеком и другими живыми существами и экосистемой в целом. Эти атрибуты сложно соотносятся с рыночной экономикой. По мнению многих исследователей, рыночная система, управляющая общедоступными ресурсами и способствующая их нерациональному использованию, неизбежно приводит к выходу за пределы возможного и разрушению системы. Будущее принадлежит плановой системе хозяйствования, а не номинально рыночной. При этом плановостью должны быть охвачены в основном крупные, стратегически важные направления.
При всей значимости гуманитарных атрибутов непременным условием решения проблемы оптимизации природопользования является принятие специальных законов, подкрепленных экономическими механизмами стимулирования и принуждения.
Осознание нависшей над человечеством угрозы выживанию побудило правительства ряда стран к осуществлению мер по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Эта система возникла в 70-е годы в США, а затем получила широкое распространение и развитие.
ПАРАДИГМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Парадигмы сельского хозяйства и земледелия в частности сменялись в историческом аспекте от примитивных к химикотехногенным и далее к адаптивно-ландшафтным.
Последние полвека отмечены перманентной агротехнологи-ческой революцией (зеленой, агрохимической, трансгенной, информационной), которая послужила богатым опытом интенсификации сельского хозяйства и мощным импульсом к экологизации.
Первым следствием зеленой революции явился небывалый скачок урожайности пшеницы и спасение от голода сотен тысяч людей. Последовавшее создание интенсивных технологий с управлением продукционным процессом интенсивных сортов по микропериодам органогенеза (агрохимическая революция) позволило в передовых западноевропейских странах утроить урожай- ность зерновых культур. Волна революции охватила большинство стран мира, но с разным успехом, часто противоречивым. Главное противоречие заключалось в повышенной или высокой агрохимической нагрузке на агроценозы и загрязнением окружающей среды, степень которого зависела от уровня земледельческой культуры. Вследствие экологических противоречий на пике агрохимической революции разразился общественный протест против интенсификации земледелия. Наиболее выразительной его формой явились альтернативные системы земледелия (биодинамического, органического и др.) с отказом от применения искусственных удобрений и пестицидов. Эти системы чаще всего религиозного или мистического происхождения выступали под лозунгом “назад к природе”. Поддерживаемые “зеленым движением” они объединились в “Федерацию органического земледелия” (IFOAM). Данное направление имеет свою нишу в сельском хозяйстве мира и соответственно свою парадигму органического земледелия со своим набором правил и запретов. Данная ниша занимает в различных странах от 5% и менее до 10% земледелия и не может играть определяющей роли в продовольственном обеспечении населения. Поэтому агрохимическая революция продолжается, но развивается она в поисках компромисса с экологизацией и, в особенности с биологизацией земледелия на адаптивной основе. В 80–90х годах прошлого века стали появляться различные варианты так называемого поддерживающего, или устойчивого сельского хозяйства (sustainable agriculture). Таким образом, наметился переход от химико-техногенной парадигмы к адаптивной. Интенсивные системы стали развиваться в сторону повышения точности выполнения технологических операций и сокращения экологических рисков.
В России всплеск интенсификации земледелия в 1986–1990 годах вылился в кампанию по освоению интенсивных технологий возделывания зерновых культур, заимствованных с Запада, на фоне исходно низкой культуры земледелия. Результаты этой работы за 1986–90 годы были весьма впечатляющими как по небывалой урожайности зерновых на полях с новыми технологиями, так и по качеству зерна. Однако неподготовленность кампании, отсутствие опыта и несовершенство применявшейся техники послужи- ли причиной загрязнения агроландшафтов и нередко продукции пестицидами. Вместо совершенствования агротехнологий и организации их разработки и освоения разразилась их беспрецедентная критика со всевозможными страшилками химико-техногенной интенсификации. С тех пор в стране возрос агрохимический нигилизм, идущий от консерватизма и слабой профессиональной подготовленности товаропроизводителей, обостренной реакцией общества, которая часто приобретает мифотворческий характер. Дело, однако, в том, что потребитель имеет право на недоверие и мифы, а товаропроизводитель не должен давать для этого поводов. Тогда возникает вопрос, каким должно быть производство сельскохозяйственной продукции с точки зрения применения средств интенсификации, которое имеет те или иные экологические риски. По этому поводу, так же как и по экономичности и энергозатратности земледелия существует обширная дискуссионная литература. Значительная часть авторов пропагандирует отказ от агрохимических средств. Понятна позиция сторонников органического земледелия как протестной категории, отрицающей достижения научно-технического прогресса в угоду религиозным, мистическим, психологическим и другим устремлениям. Другое дело, когда игнорируется, принижается или извращается роль минеральных удобрений в научной литературе и предлагаются “новые” парадигмы так называемого биоземледелия вопреки использованию “земледельческих допингов (удобрений, пестицидов)” с их отрицательными последствиями.
Начало прорыва к оптимальному решению, к коадаптивной парадигме положено созданием адаптивно-ландшафтного земледелия (АЛЗ). Импульсом для разработки систем АЛЗ послужили решения Докучаевской сессии РАСХН в 1992 году. Они адаптированы к различным экологическим и социально-экономическим условиям: различным категориям агроландшафтов (экологическим группам земель), общественным потребностям в продукции и рынку, производственно-ресурсному потенциалу, хозяйственным укладам. Разработка их осуществляется на основе ГИС агроэкологической оценки земель и проектирования.
Эти системы в развитие докучаевской модели включают:
-
- оптимизацию соотношения угодий в соответствии с агроэкологической группировкой земель;
-
- организацию территории на ландшафтно-экологической основе;
-
- размещение севооборотов в пределах агроэкологических типов земель с учетом почвенно-ландшафтных связей;
-
- формирование агротехнологий применительно к агроэкологическим видам земель;
-
- мелиоративные и лесомелиоративные мероприятия.
К настоящему времени сложился определенный опыт проектирования и освоения АЛСЗ для плакорных, полугидроморфных эрозионных, гидроморфных, засоленных, солонцовых, пойменных, литогенных, мерзлотных и других групп земель. Можно приводить множество примеров высокой эффективности дифференциации использования земель в АЛСЗ.
Дальнейшая дифференциация земледелия осуществляется за счет агротехнологий, которые разрабатывают применительно к агроэкологическим видам земель с учетом мезо- и микрорельефа, микроклимата, почвообразующих пород, микроструктур почвенного покрова, свойств почв и режимов. Экологическое разнообразие агротехнологий возрастает за счет факторов интенсификации, которые направлены на преодоление лимитирующих агроэкологических условий с помощью химических и биологических средств (удобрений, мелиорантов, средств защиты растений, биопрепаратов), геоинформационных систем и других достижений интеллектуального человеческого потенциала.
Технологии разрабатываются по принципу последовательного устранения лимитирующих факторов.
Поступательное развитие нормальных, интенсивных и высокоинтенсивных (точных) агротехнологий составляет суть назревшей технологической модернизации земледелия. Важно подчеркнуть, что агротехнологии системно приурочены к АЛСЗ. К сожалению, восприятие этой проблемы нередко сдвинуто в сторону менеджмента, то есть инструментария точного земледелия, которое в определенной мере мифизировалось и нередко сводится к выборочному внесению минеральных удобрений с помощью навигационных средств безотносительно к системе удобрений в хозяйстве. В тех случаях, когда применение средств интенсификации накладывается на экстенсивные фоны, как правило, проявляются экологические издержки.
Ближайшие задачи освоения АЛСЗ связаны с организацией их проектирования, созданием инновационно-технологических центров, подготовкой и переподготовкой специалистов в соответствии с новыми образовательными программами. В плане научного обеспечения требуется усиление исследований по ландшафтноэкологической организации территории, особенно противоэрози-онной и мелиоративной. Освоение АЛСЗ – реальный путь к эколого-экономической стабилизации земледелия в соответствии с адаптивно-биосферной парадигмой природопользования, хотя им не исчерпывается решение проблемы. Представляется, что разработанная методология адаптивно-ландшафтного земледелия должна распространиться на все сельскохозяйственные ландшафты и получить развитие в плане конструирования высокопроизводительных и устойчивых агроэкосистем.
КОНСТРУКТИВНО-БИОСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
При всей значимости адаптивных систем и природоподобных агротехнологий экологическая (коэволюционная) парадигма природопользования развивается в сторону конструктивного сотрудничества человека с природой. По этому поводу мнения ученых расходятся. Нам представляются более аргументированными позиции Н.В. Тимофеева-Ресовского (1968), обосновывающего необходимость повышения биологической продуктивности биосферы путем увеличения средней плотности зеленого покрова Земли и замены видов с низким КПД фотосинтеза видами с высоким КПД. Твердую позицию в данном отношении занимал Н.Н. Моисеев (1990), который полагал, что в отличие от стратегии природы, основанной на самоорганизации, на определенном этапе развития жизни для Человека становится жизненно необходимым направляемое развитие. Человек должен стремиться использовать стратегию природы, ее законы и свои возможности для создания условий, гарантирующих дальнейшее развитие человеческого рода.
Нам представляется, что в современном земледелии и в сельском хозяйстве в целом наступает новый этап природопользования, который соответствует конструктивно-биосферной парадигме, предполагающей (Кирюшин, 2018b) :
-
- сохранение природных ландшафтов;
-
- восстановление деградированных ландшафтов;
-
- оптимизацию природно-антропогенных ландшафтов по экологическим и социально-экономическим условиям;
-
- создание новых биологических видов и экосистем с высоким биологическим потенциалом, превосходящим по продуктивности природные экосистемы.
В свете конструктивно-биосферной парадигмы оптимизация сельскохозяйственного природопользования означает создание сети сельскохозяйственных ландшафтных систем, включающих агроландшафты, водохозяйственные, мелиоративные, агропромышленные, сельские лесохозяйственные, животноводческие, селитебные ландшафты, чередующиеся с природными, искусственными, природозащитными ландшафтами в экологических каркасах территории.
Экологический каркас территории, интегрированный с полевой инфраструктурой, представляет новую категорию, приходящую на смену традиционному защитному лесоразведению с его недостаточной адаптивностью к ландшафтно-экологическим условиям.
Основным механизмом реализации конструктивнобиосферной парадигмы сельскохозяйственного природопользования является развитие территориального планирования и проектирования на ландшафтной основе в системе стратегического планирования. В качестве инструментария ландшафтно-экологического планирования и проектирования рассматривается:
-
- идентификация, оценка и группировка экологических функций ландшафта;
-
- структурно-функциональный анализ ландшафта, идентификация и оценка ландшафтных связей;
-
- группировка социально-экономических функций ландшафта.
Новый этап природопользования связан с управлением функциями ландшафта на основе его структурно-функционального анализа. В этой связи в почвоведении получило развитие учение об экологических функциях почв, включающих биологические, биоэнергетические, биохимические, биогеохимические, гидрологические и гидрогеологические, газоатмосферные и био-геоценотические функции (Добровольский, Никитин, 1990) . Следующий этап развития этого учения – количественная оценка экологических функций почв и исследование механизмов их агроген-ной трансформации. Существенным недостатком этой работы является оторванность функций почв от экологических функций биосферы, частью которых они являются. Поэтому нами (Кирюшин, 2018a) была предложена группировка экологических функций ландшафта и их определения (табл. 1).
Таблица 1. Экологические функции ландшафтов
Table 1. Ecological functions of landscapes
|
Экотопические |
Биоценотические |
Биоэкологические |
|
Атмосферные Газообменная Теплообменная Гидроатмосферная Климатоформирующая Литосферные Геодинамическая Геофизическая Геохимическая Гидрологические и гидрогеологические Экотопические функции почв |
Самоорганизации Эволюции Биоразнообразия |
Продукционная Деструкционная Органоаккумулятивная Биогеохимические Газовые Концентрационная Окислительновосстановительная Активаторно-ингибиторная Биопедоэкологиче-ская |
|
Почвообразователь ная |
||
|
Энергетическая |
При сельскохозяйственном использовании ландшафтов экологические функции в той или иной мере сокращаются и трансформируются в социально-экономические (табл. 2).
Например, функция биоразнообразия сокращается, но в определенной мере восполняется за счет создания человеком новых видов и сортов растений. Биопродукционная функция трансформируется в агробиотехнологическую. При экстенсивном земледелии все экологические функции, связанные с фотосинтезом, существенно сокращаются, что приводит к деградации ландшафтов. При этом нарушаются общебиосферные функции, в частности газообменные и теплообменные.
Таблица 2. Социально-экономические функции ландшафта
Table 2. Social and economic functions of the landscape
|
|
Конструктивно-биосферная парадигма ориентирована на оптимизацию социально-экономических функций и сохранение или компенсацию определенных экологических функций. Это стало возможным благодаря лучшим достижениям мировой агро-технологической революции, созданию новых сортов растений с высоким генетическим потенциалом и высокоинтенсивных точных агротехнологий, в результате которых продуктивность агро- ценозов намного превосходит традиционную. Новая парадигма означает очередной качественный скачок в земледелии. Человеческий фактор стал не только соразмерным с природным, но нередко определяющим в оценках биопродуктивности и плодородия почв, что обусловливает новый подход к его оценке с учетом сложных взаимодействий. Продукт высоких технологий достигается за счет интеллектуального потенциала товаропроизводителей, мобилизации достижений науки и инновационной деятельности без ущерба для земельных ресурсов, оптимального биологического круговорота, состояния почв и агроландшафтов.
Смена парадигмы природопользования определяет новое содержание земледелия и новый путь развития, связанный с углублением базовых представлений, преодолением традиционных догм и мифов. В определенной мере это относится к почвенному плодородию. Эта категория нередко абсолютизировалась, мифизировалась. Основная оценка земель при формировании систем земледелия производилась на основе агропроизводственной группировки и бонитировки почв без должного внимания к множеству других агроэкологических условий. Существовали различные “гуманитарные” категории плодородия почв (потенциальное, эффективное, экономическое и т. д.), а также понятие “воспроизводства плодородия” и др.
Такая формализация и абсолютизация плодородия сильно сужает это понятие в ущерб множеству почвенных и смежных с ними условий, определяющих продуктивность растений. Здесь надо отдать должное В.И. Вернадскому, который оценивал совокупное влияние этих условий как плодородие биосферы. Настало время понять сущность и механизмы этих взаимодействий для конструирования оптимальных агроэкосистем.
Вклад почвы в формирование продуктивности агроценозов, помимо прямого обеспечения растений элементами питания, связан с трансформацией и перераспределением ею космических факторов жизни растений, в которых участвуют рельеф, почвообразующие породы, растительный покров. Например, использование агроценозом влаги, поступающей с осадками, зависит от рельефа и, соответственно, поверхностного стока, экспозиции склона (нагрев и испарение), почвообразующей породы (фильтрационная способность, дренированность), ветрового режима (испарение), свойств почвы (плотность, структурное состояние, влагоемкость, фильтрационная способность, гидрогеологический режим), растительного покрова (лесополосы, кулисы, мульча и т. д.). Не менее сложны закономерности перераспределения температурного режима и теплообеспеченности. Многочисленные экологические функции биосферы и ее базового компонента почвы переплетаются, сложно взаимодействуя. В частности, биосферные функции, непосредственно “ответственные” за плодородие почв, помимо почвообразовательной и экотопической функций почв включают ряд биоэкологических функций, гидрогеологические, газообменные, геохимические, геофизические и другие.
Таким образом, плодородие почв определяется совокупностью экотопических и биопедоэкологических функций почв и сопряженных с ними экологических и социально-экономических функций агробиогеоценозов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная парадигма почвоведения, сохраняя докучаев-скую идеологию, приобретает конструктивно-биосферную направленность и предполагает оптимизацию почвенных условий в соответствии с требованиями возрастающей продуктивности и устойчивости агроэкосистем, регулирования почвенного плодородия как определенной совокупности биосферных функций.
Развитие почвоведения в свете новой парадигмы сельскохозяйственного природопользования включает следующие задачи:
-
- проектирование сельскохозяйственных ландшафтов – новый этап развития адаптивно-ландшафтного земледелия;
-
- создание инструментария и методологии ландшафтноэкологического анализа территории;
-
- разработка системы оценки экологических функций почв и ландшафтов и методологии трансформации их в социальноэкономические функции;
-
- почвенно-агрономическое обоснование ландшафтноэкологического и стратегического планирования;
-
- совершенствование цифрового почвенного картографирования на основе идентификации и оценки почвенно-ландшафтных связей;
-
- почвенно-экологическое обеспечение точного земледелия и оценка земель для освоения наукоемких агротехнологий;
-
- трансформация космических факторов жизни растений в почвах и ландшафтах;
-
- повышение КПД использования космических факторов в управлении продукционным процессом агроценозов;
-
- выявление потенциальной биопродуктивности агроландшафтов в сравнении с биопотенциалом ландшафтов;
-
- экобиологическая диагностика почв и оптимизация их био-генности и биологической активности в интенсивных агротехнологиях;
-
- оптимизация биологического круговорота веществ в агроландшафтах;
-
- оптимизация режима органического вещества и структурного состояния почвы;
-
- управление фитосанитарным состоянием почв биологическими средствами;
-
- конструирование почв;
-
- влияние потепления климата на почвы, почвенные процессы и почвенный покров.
Список литературы Развитие парадигмы сельскохозяйственного природопользования (к 175-летию В.В. Докучаева)
- Вернадский В.И. Биосфера. Избр. Соч. Т. 5. М.: Изд. АН СССР, 1960. С. 5–102.
- Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемах. М.: Наука, 1990. 259 с.
- Докучаев В.В. Наши степи прежде и теперь. СПб.,1899. 117 с.
- Кирюшин В.И. Экологические функции ландшафта // Почвоведение. 2018a. № 1. С. 17–25.
- Кирюшин В.И. Экологические основы проектирования сельскохозяйственных ландшафтов. СПб: ООО “Квадро”, 2018b. 568 с.
- Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М: Молодая гвардия, 1990. 351 с.
- Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Райдерс Й. За пределами роста. М.: “Пангея”, 1994. 304 с.
- Олейников Ю.В. Формирование новой мировоззренческой парадигмы // Философия социоприродного взаимодействия в век конвергентных технологий. СПб: Изд-во “Нестор-История”, 2018. С. 15–38.
- Позаченюк Е.А., Ергина Е.И. Система коадаптивности как основа ноосферно-экологической парадигмы // Культура народов Причерноморья. 2004. № 48. Т. 1. С. 9–13. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/.
- Тимофеев-Ресовский Н.В. Биосфера и человечество // Бюл. ЮНЕСКО. 1968. № 1. С. 3–10.
- Яницкий О.Н. Экологическая парадигма как элемент культуры // Социологические исследования. № 7. 2006. С. 83–93.
- Catton W.R., Dunlap R.E. Environmental Sociology: A new paradigm // American Sociologist. 1978. Vol. 13. P. 41–49.