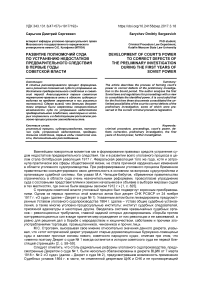Развитие полномочий суда по устранению недостатков предварительного следствия в первые годы советской власти
Автор: Сарычев Дмитрий Сергеевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс формирования и развития полномочий суда по устранению недостатков предварительного следствия в советский период. Анализируются первые советские нормативно-правовые акты в области судопроизводства на предмет закрепления в них указанных полномочий. Сделан вывод, что данными документами впервые были закреплены неограниченные возможности суда по устранению недостатков предварительного следствия, некоторые из которых сохранились и в действующем российском уголовно-процессуальном законодательстве.
Уголовный процесс, судопроизводство, полномочия суда, устранение недостатков, предварительное следствие, первые годы советской власти, дополнительное расследование
Короткий адрес: https://sciup.org/14932098
IDR: 14932098 | УДК: 343.131.3(47+57)61917/1929 | DOI: 10.24158/pep.2017.3.18
Текст научной статьи Развитие полномочий суда по устранению недостатков предварительного следствия в первые годы советской власти
Важнейшим поворотным моментом как в формировании правовых средств устранения судом недостатков предварительного следствия, так и в развитии всего уголовного процесса в целом стала Октябрьская революция 1917 г. Февральская революция того же года, хотя и затронула практически все сферы общественной жизни, не стала причиной кардинальных изменений в области уголовного судопроизводства. При реформировании уголовного процесса Временное правительство сконцентрировало свою деятельность в основном на вопросах судоустройства и организации судебной системы. Как указал М.А. Чельцов-Бебутов, «Временное правительство ограничилось в области суда очень незначительными реформами, провозгласив упразднение суда с сословными представителями и земских начальников и объявив о выборах мировых судей в тех местностях, где они не были введены законом 1912 г.» [1, с. 825].
С приходом советской власти уголовный процесс был подвергнут коренным преобразованиям. Одним из первых принятых этой властью актов был декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О суде» (далее – Декрет о суде № 1). Указанным актом были ликвидированы предусмотренные Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – Устав) общие судебные установления, а также многие уголовно-процессуальные институты: институт судебных следователей, присяжной адвокатуры и некоторые другие. Вводилась система чрезвычайных судебных органов – революционных трибуналов, главной задачей которых декларировалась «борьба против контрреволюционных сил в виде принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц».
М.С. Строгович, высказывая свое мнение относительно значения данного декрета, указывал, что «этот исторический декрет упразднил старые дореволюционные буржуазно-помещичьи суды и заложил прочные основы нового, советского народного суда», отмечая при этом, что «именно поэтому Декрет о суде № 1 всегда останется в истории советского суда ее первой блестящей страницей» [2, с. 58–59].
Следует отметить, что столь радикальные реформы уголовного судопроизводства, предусмотренные Декретом о суде № 1, были несколько сбалансированы в декрете ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде» (далее – Декрет о суде № 2), предусмотревшем возможность применения Судебных уставов 1864 г. в части, не отмененной декретами ЦИК и СНК и не противоречащей
«правосознанию трудящихся классов», что обусловило возможность применения, в том числе, и норм Устава, позволявших суду устранять недостатки предварительного следствия. В то же время статья 22 Декрета о суде № 2 указывала на право суда вернуть уголовное дело на доследование в следственную комиссию или поручить такое доследование одному из членов суда, если он сочтет постановление следственной комиссии о предании суду (заменившее собой обвинительный акт) необоснованным. Также необходимо обратить особое внимание на норму, позволяющую производить дополнительное расследование одному из судей. Данное положение, по нашему мнению, является неким отголоском организационной структуры судебного ведомства, закрепленной в Учреждении судебных установлений от 20 ноября 1864 г., в соответствии с которой судебные следователи являлись членами окружных судов, а в некоторых случаях могли даже привлекаться в качестве судей по другим делам.
Однако данная норма ст. 22 Декрета о суде № 2 не получила дальнейшего распространения, и уже декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г. «О Народном Суде РСФСР» предусматривалась возможность доследования только путем возвращения дела в следственную комиссию. При этом данный акт указывал на необходимость применять акты социалистического правительства, а в случае их неполноты – руководствоваться социалистическим правосознанием. Также указанным положением устанавливался запрет на применение «законов свергнутых правительств», к которым, безусловно, относился и Устав уголовного судопроизводства. В связи с этим нельзя обойти стороной тот факт, что анализируемый декрет практически не регламентировал полномочия суда, связанные с исправлением выявленных недостатков предварительного следствия, ограничиваясь только, как уже указывалось выше, ссылкой на возможность направления дела на доследование.
Следует отметить, что уголовное судопроизводство по делам, подведомственным революционным трибуналам, регламентировалось отдельными законодательными актами. В Положении о революционных трибуналах, утвержденном декретом ВЦИК от 18 марта 1920 г., закреплялось требование о мотивированности постановления о направлении дела на доследование и устанавливался предельный срок производства дополнительного расследования в один месяц, который мог быть продлен по постановлению трибунала.
Таким образом, первыми нормативно-правовыми актами советского периода в области уголовного судопроизводства практически не регламентировался вопрос устранения судом недостатков, возникших на этапе предварительного следствия. Тем не менее данными актами предусматривалась возможность направления дела на доследование. Устанавливались только два основания для этого – необоснованность постановления следственной комиссии (народного следователя) о предании суду и невосполнимая в суде неполнота предварительного расследования. При этом некоторые авторы указывают, что в данный период выделялось еще такое основание для направления дела на доследование, как односторонность и необъективность произведенного предварительного следствия [3, с. 34; 4, с. 46].
Следующей вехой в формировании полномочий суда по устранению недостатков предварительного следствия стало принятие УПК РСФСР 1922 г., а затем и УПК РСФСР 1923 г. [5]. Новым уголовно-процессуальным законом указанные полномочия суда существенно расширились по сравнению с Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. Помимо полномочий по назначению повторной экспертизы и осуществлению осмотра судом, которые были, по сути, аналогичны полномочиям суда по Уставу, УПК РСФСР 1923 г. наделял суд правом отложить рассмотрение дела и истребовать новые доказательства, если дело будет признано недостаточно выясненным. Также данный уголовно-процессуальный кодекс предусматривал право суда изменить первоначальное обвинение, если это не влечет за собой более тяжкого наказания.
Нельзя не отметить, что новые полномочия суда, позволявшие ему устранить в сущности любой недостаток предварительного следствия вне зависимости от причин и характера его возникновения, в полной мере отвечали складывающимся представлениям о суде как об «орудии борьбы с преступлениями, посягающими на Советское государство и советский правопорядок» и о его задачах по установлению истины по делу [6, с. 112–113].
Помимо наделения суда практически неограниченными полномочиями по устранению недостатков произведенного предварительного следствия, УПК РСФСР 1923 г. во многом развил элементы института возвращения уголовного дела на доследование, которые, как указывалось ранее, были закреплены в Уставе уголовного судопроизводства.
Статья 237 УПК РСФСР 1923 г. прямо указывала на наличие у суда на стадии предания суду права вынести определение о направлении уголовного дела на доследование. Единственным основанием для возвращения дела со стадии предания суду, в соответствии со ст. 238 УПК РСФСР 1923 г., являлась недостаточная обоснованность предъявленного обвинения. Наличие ошибок и недостатков в сформулированном обвинении не являлось основанием для возвращения уголовного дела на доследование, так как в случае несогласия с содержащейся в обвинительном заключении формулировкой обвинения суд, в соответствии со ст. 240 УПК РСФСР
1923 г., был вправе поручить одному из судей составление нового обвинительного заключения, которое заменяет собой первоначальное. М.С. Строгович также указывал на возможность исправления определением распорядительного заседания ошибки в квалификации деяния без замены им обвинительного заключения при условии, что такое изменение не влечет предъявления лицу более тяжкого обвинения и не происходит изменения обвинения по существу. При этом ученый негативно высказывался относительно предусмотренной УПК РСФСР 1923 г. возможности составления судьей на стадии предания суду нового обвинительного заключения. Он предлагал в случае несогласия суда с представленным обвинительным заключением направлять дело прокурору, отмечая, что «порядок пересоставления обвинительного заключения судьей применяется очень редко» и он «не оправдывает себя ни в теоретическом, ни в практическом отношении», а также указывая, что в данном случае прокурору приходится поддерживать обвинение по составленному судьей обвинительному заключению, которое может противоречить его собственной точке зрения [7, с. 377–379].
Из вышеприведенных положений следует, что в УПК РСФСР 1923 г., как и в принятых до него декретах, основания для возвращения уголовного дела на доследование из стадии предания суду ограничивались вопросом обоснованности обвинения, то есть вопросом достаточности доказательств для принятия решения по делу. Тем не менее указанное положение некоторыми учеными трактовалось расширительно. Так, М.А. Чельцов указывал на необходимость при принятии решения о возвращении дела на доследование выяснять вопрос о соблюдении при проведении предварительного следствия процессуальных норм [8, с. 459]. М.С. Строгович полагал необходимым выносить в распорядительном заседании определение о направлении дела на дополнительное расследование, если на этапе предварительного следствия следователем были допущены процессуальные нарушения [9, с. 379].
УПК РСФСР 1923 г. предусматривал также возможность возвращения дела на доследование и со стадии рассмотрения уголовного дела по существу. Так, статья 302 данного кодекса закрепляла помимо ранее указанной возможности суда потребовать новых доказательств и право направить дело для производства дополнительного расследования, в том числе и по собственной инициативе, в случае, если «дело недостаточно выяснено».
Также УПК РСФСР 1923 г. предусматривал возможность возращения уголовного дела для производства дополнительного расследования в случае выявления факта совершения лицом другого преступления, необходимости изменения обвинения на более тяжкое и привлечения к суду новых лиц. Так, статья 312 УПК РСФСР 1923 г. предусматривала возможность вернуть дело на дополнительное расследование в случае выявления факта совершения лицом другого преступного деяния, которое находится в тесной связи с первоначальным обвинением и отдельное рассмотрение которого не представляется возможным. При этом в случае, если новое обвинение не связано с ранее совершенным деянием, оно подлежало выделению в отдельное производство и рассмотрению в общем порядке. М.А. Чельцов также отмечал, что «если новое обвинение является значительно более легким по сравнению с первоначальным, то оно остается без рассмотрения» [10, с. 537]. М.С. Строгович в свою очередь указывал на необходимость в любом случае возвращать уголовное дело на доследование, если на судебном следствии будет выявлено совершение подсудимым иного преступления, так как это, по его мнению, «фактически всегда отягчает уголовную ответственность подсудимого, хотя бы новое преступление было менее значительным, чем то, обвинение в котором было первоначально предъявлено» [11, с. 426].
Право суда по ходатайству сторон возвращать уголовное дело на доследование для изменения обвинения на более тяжкое закреплялось статьей 313 УПК РСФСР 1923 г. М.С. Строгович отмечал, что данной нормой устанавливалась возможность суда при согласии подсудимого изменить обвинение на более тяжкое без возвращения уголовного дела для производства предварительного следствия. При этом ученый подчеркивал, что на практике сложился подход, согласно которому такое изменение в любом случае требует возвращения уголовного дела на доследование [12, с. 428]. Еще одним основанием для возвращения уголовного дела судом на доследование являлось обнаружение факта совершения преступления лицом, не привлеченным к делу в качестве подсудимого, если предъявляемое ему обвинение не может быть рассмотрено отдельно от первоначального обвинения. В противном случае по общему правилу, в соответствии со ст. 315 УПК РСФСР 1923 г., дело в отношении нового лица выделялось в отдельное производство и расследовалось в общем порядке.
Статьей 398 УПК РСФСР 1923 г. устанавливалось правило, допускавшее возращение уголовного дела на доследование губернским судом только в случае неустранимой в судебном заседании неполноты имеющегося в деле материала. В иных случаях возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования не допускалось.
Из вышеприведенного видно, что УПК РСФСР 1923 г. расширил перечень оснований для возвращения уголовного дела на доследование со стадии судебного разбирательства, прибавив к ним такие основания, как необходимость изменения обвинения на более тяжкое, необходимость дополнения обвинения (в том числе и обвинением в совершении менее тяжких преступлений), предъявление обвинения лицу, ранее не привлеченному к делу в качестве подсудимого, если такое обвинение находится в тесной связи с первоначальным обвинением.
Таким образом, УПК РСФСР 1923 г. впервые предоставил суду практически неограниченные возможности по устранению недостатков предварительного следствия как непосредственно в рамках судебного разбирательства, так и посредством использования элементов института возвращения уголовного дела прокурору, что вполне согласовывалось с возложенными на суд обязанностями по борьбе с преступностью и установлению истины по делу. В дальнейшем рассматриваемые полномочия суда получили свое развитие в принятом 27 октября 1960 г. УПК РСФСР, а также в кодексах других советских республик.
В рамках указанных нормативно-правовых актов полномочия суда по устранению недостатков предварительного следствия претерпели существенные изменения, что выразилось в существенном ограничении возможностей суда по устранению данных недостатков непосредственно в рамках судебного разбирательства, а институт возвращения уголовного дела на дополнительное расследование, напротив, стал основным правовым средством по их исправлению и получил наиболее детальную регламентацию, фактически став «классическим» институтом советского уголовного процесса [13, с. 54]. Следует отметить, что данный институт в несколько измененной форме сохранился и в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что допустимость его существования в состязательном процессе до сих пор вызывает определенные споры [14, с. 54–57; 15, с. 14; 16, с. 21–27]. Тем не менее подобные же процедуры устранения нарушений, связанные с возвращением дела для расследования, существуют и в некоторых других странах, например в рамках французского и английского уголовного процесса, также вызывая многочисленные споры среди исследователей [17, p. 599–601; 18, p. 72].
Ссылки и примечания:
-
1. Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 1995.
-
2. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958.
-
3. Ескина С.В. Проблемы института направления уголовных дел на дополнительное расследование : дис. … канд. юрид. наук. М., 2000.
-
4. Трифонова К.А., Зайцева Е.А. Правовой институт возвращения уголовного дела на предварительное расследование: проблемы теории и практики. М., 2014.
-
5. Здесь необходимо отметить, что УПК РСФСР 1923 г. был принят с целью приведения уголовно-процессуального законодательства в соответствие с Положением о судоустройстве РСФСР, утвержденным постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 г., в связи с чем оно и не затронуло регулирования норм, регламентирующих полномочия суда по устранению недостатков предварительного следствия.
-
6. Строгович М.С. Указ. соч. С. 112–113.
-
7. Там же. С. 377–379.
-
8. Чельцов М.А. Уголовный процесс. М., 1948.
-
9. Строгович М.С. Указ. соч. С. 379.
-
10. Чельцов М.А. Указ. соч. С. 537.
-
11. Строгович М.С. Указ. соч. С. 426.
-
12. Там же. С. 428.
-
13. Головко Л.В. Истоки и перспективы института дополнительного расследования уголовных дел на постсоветском пространстве // Государство и право. 2009. № 11. С. 54–67.
-
14. Волторнист О.А. Трансформация института возвращения уголовного дела прокурору // Вестник Омской юридической академии. 2014. № 4 (25). С. 54–57.
-
15. Ковалев Н.П. Возвращение судом уголовного дела для дополнительного расследования. Алматы, 2007.
-
16. Конин В.В. Институт возвращения уголовных дел для производства дополнительного расследования: прошлое и настоящее // Адвокат. 2012. № 9. С. 21–27.
-
17. Pradel J. Procédure pénale. 9 éd. Paris, 1997.
-
18. Spencer J.R. La procédure pénale anglaise. Paris, 1998.
Список литературы Развитие полномочий суда по устранению недостатков предварительного следствия в первые годы советской власти
- Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 1995.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958.
- Ескина С.В. Проблемы института направления уголовных дел на дополнительное расследование: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000.
- Трифонова К.А., Зайцева Е.А. Правовой институт возвращения уголовного дела на предварительное расследование: проблемы теории и практики. М., 2014.
- Чельцов М.А. Уголовный процесс. М., 1948.
- Головко Л.В. Истоки и перспективы института дополнительного расследования уголовных дел на постсоветском пространстве//Государство и право. 2009. № 11. С. 54-67.
- Волторнист О.А. Трансформация института возвращения уголовного дела прокурору//Вестник Омской юридической академии. 2014. № 4 (25). С. 54-57.
- Ковалев Н.П. Возвращение судом уголовного дела для дополнительного расследования. Алматы, 2007.
- Конин В.В. Институт возвращения уголовных дел для производства дополнительного расследования: прошлое и настоящее//Адвокат. 2012. № 9. С. 21-27.
- Pradel J. Procédure pénale. 9 éd. Paris, 1997.
- Spencer J.R. La procédure pénale anglaise. Paris, 1998.