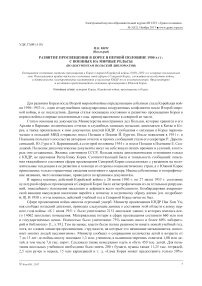Развитие просвещения в Корее в первой половине 1950-х гг.: с военных на мирные рельсы (по документам польской дипломатии)
Автор: Ким Игорь Константинович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Общая педагогика, история образования
Статья в выпуске: 5 (52), 2017 года.
Бесплатный доступ
Освещается состояние системы просвещения в Корее в период Корейской войны (1950-1953 гг.) и первых послевоенных лет. Показывается крайне тяжелое состояние этой сферы в Северной Корее, сложившееся вследствие войны, и деятельность государственных институтов и населения КНДР по ее восстановлению. Фрагментарно и негативно представляется состояние просвещения в Южной Корее.
История кореи, корейская война, просвещение в корее
Короткий адрес: https://sciup.org/14822621
IDR: 14822621 | УДК: 9.94(519)
Текст научной статьи Развитие просвещения в Корее в первой половине 1950-х гг.: с военных на мирные рельсы (по документам польской дипломатии)
Для развития Кореи после Второй мировой войны определяющим событием стала Корейская война 1950–1953 гг., один из крупнейших международных вооруженных конфликтов после Второй мировой войны, и ее последствия. Данная статья посвящена состоянию и развитию просвещения Кореи в период войны и первые послевоенные годы, преимущественно в северной ее части.
Статья основана на документах Министерства иностранных дел Польши, которые хранятся в его Архиве в Варшаве: политических отчетах и служебных записках польских дипломатов в Китае и Корее, а также прилагаемых к ним документах властей КНДР. Сообщения о ситуации в Корее первоначально в польский МИД отправлял посол Польши в Пекине Й. Бургин. После появления в 1951 г. в Пхеньяне польского посольства авторами отчетов и прочих сообщений стали его секретари Р. Дерепа-синьский, Ю. Гура и Э. Цереквицкий, а со второй половины 1954 г. и посол Польши в Пхеньяне Е. Сед-лецкий. Польские дипломатические документы несут на себе явную печать времени и условий, в которых они создавались. Являясь союзником СССР, Польша имела дипломатические отношения только с КНДР, не признавая Республику Корея. Соответствующей была и тональность сообщений: описания тяжелейшего состояния сферы просвещения Северной Кореи соседствовало с указанием на положительные тенденции в ее развитии и помощи со стороны социалистических стран, а о Южной Корее приводились только отрывочные сведения негативного характера. Имена собственные и географические названия, часто искаженные, приводятся по архивным документам.
В период военных действий Корейской войны с 26 июня 1950 г. по 27 июля 1953 г. состояние культурной сферы и просвещения в Северной Корее было катастрофическим из-за тотальных разрушений, тяжелейшего положения населения и дефицита всего необходимого. Бомбардировки американской авиации вынуждали население перейти к ночному и подземному образу жизни [см. подробнее: 6; 8]. В 1950 г. из-за военных действий учебный год в Северной Корее начат не был.
Сфере просвещения война нанесла огромный ущерб. Министр просвещения КНДР Пак Хам Ун, как сообщал польский дипломат, приводил следующие данные о состоянии этой области к концу первого года войны: «К 1 июня 1951 г. было уничтожено 2151 школьное здание, в которых имелись всего 14062 школьных помещения. Материальные потери в сфере просвещения составили 660 млн вон в государственных ценах. Полностью было уничтожено 75% высших школ и более 60% лабораторий и библиотек» [1, л. 93]. Тем не менее, власти были полны решимости начать новый учебный год, хотя, по словам министра просвещения, «трудности, на которые это начинание наталкивается, наполняет многих людей пессимизмом». Министр сообщил о сокращении количества детей в возрасте от 7 до 13 лет: до войны школу посещало 1,3 млн. учеников, а нынешняя перепись охватила 1,08 млн детей, в том числе 7,6 тыс. сирот. Следовало также немедленно одеть и обуть 450 тыс. детей. Для печатания школьных учебников необходимо было иметь 200 т бумаги, нужны также 11,25 тыс. тетрадей, 2,5 млн ручек и перьев, 15 млн карандашей и т. д. «Сама Корея может предоставить только 50%»
-
[1, л. 51], – заключал министр по этому вопросу. Всего за время войны по официальным данным было серьезно повреждено 5 тыс. школьных зданий [4, л. 52].
-
1 сентября 1951 г., несмотря на огромные трудности, в КНДР начался новый учебный год. Министр просвещения КНДР, согласно донесению польского дипломата, сообщал: «Из-за постоянных бомбардировок обучение не может проходить в нормальных классах. Построены временные домики. Есть два способа проведения уроков: либо в одном помещении находятся вся школа, либо дети размещены группами в разных местах». Первый вариант использовался там, где меньше бомбардировок, и тогда школа представляла собой 10-классную и имела 10 учителей, второй – там, где разбомблено больше, ближе к фронту, классы находятся в разных местах и учителя обучают, переходя с места на место, а программа выполняется только наполовину. Из-за уничтожения учебников было начато издание новых в количестве 4,2 млн экземпляров по 76 наименованиям. В восстановлении и обустройстве школ участвовали более 1 млн преподавателей и студентов, 170 тыс. родителей, а также крестьяне, пионеры, корейские солдаты и китайские солдаты–добровольцы. В результате начали работу 2882 постоянных школ (980 тыс. детей) и 808 передвижных (390 тыс. детей), часть которых построена под землей, а также 58 средних технических школ (10 тыс. учащихся). Государство собрало 9 тыс. сирот в лагерях, а также организовало «66 детских садов для сирот вообще и 16 детских садов для сирот патриотов». Об огромных трудностях в обучении свидетельствовал следующий факт: присланные из Чехословакии карандаши, которых «хватит всей Корее по крайней мере на три года», из-за отсутствия транспорта не могут быть доставлены детям, поэтому «нередко учителя пешком идут в Синиджу и в рюкзаках приносят карандаши». Процесс обучения постоянно нарушался из-за налетов американской авиации: «В одной только провинции Анджу в течение первых пяти дней нового учебного года учащиеся должны были бежать в убежища 33 раза и 5 детей погибло от пуль» [1, л. 94–95].
В следующем 1952/53 учебном году дети школьного возраста уже на 80% были вовлечены в образовательный процесс. И это несмотря на то, что «условия не позволяют изучить весь материал, но стремление к учебе так велико, что на половинный вариант дети бегут по холоду по 5–6 км, лишь бы учиться», – отмечал польский дипломат. Министерство просвещения «выделило каждому ученику одну тетрадь на весь год, кроме того, нет ручек и перьев. Учебники печатаются в КНДР, однако отсутствие типографий и бумаги делает невозможным издание необходимого количества книг». Дипломат описывал существующую в КНДР систему школьного образования: «…всеобщая 5-классная школа, после окончания которой сдается государственный экзамен, после чего неполная средняя 3-классная школа и полная средняя также 3-классная. После окончания неполной средней школы можно пойти в среднюю техническую. Окончанию каждой школы черту подводит государственный экзамен». На зимний период министерство просвещения организовало в деревнях школы для взрослых: в первом классе обучаются только писать и читать, во втором добавляется математика, а в третьем ей обучаются в несколько большем объеме [2, л. 62–63]. Со 2 июля 1953 г. во всех школах КНДР начались выпускные экзамены, продемонстрировавшие, что «уровень образования достаточно высокий», в чем «большая заслуга учителей, которые в своей ответственной работе были вынуждены преодолевать большие трудности, связанные с условиями войны» [3, л. 106], – резюмировалось в польском дипломатическом отчете.
«Смело можно утверждать, что образование в КНДР, несмотря на условия войны, всеобщее», – делал вывод польский дипломат в отчете за февраль 1953 г., подтверждая его массовой организацией школ для взрослых. В качестве примера приводится Ченджин, в котором имелось более 40 школ для взрослых [Там же, л. 5–6]. В 1953 г. широкого размаха достигло изучение русского языка: «…на территории КНДР работает в настоящее время 749 курсов по обучению русскому языку, которые посещают более 15500 слушателей. Корейское общество по культурным связям с Советским Союзом проводит также курсы подготовки учителей русского языка», обеспечивая слушателей учебниками и словарями, насчитывавших в том году 2 млн экземпляров [Там же, л. 74].
В годы войны развивалась и высшая школа в Северной Корее. С 1 октября 1951 г. начался учебный год в ряде вузов, где обучалось 2537 студентов. Их количество уменьшилось, поскольку «в начале войны большинство студентов и студенток пошли на фронт. Вернулись только те, кто был ранен, вылечился, но не мог уже сражаться дальше» [1, л. 94]. В следующем учебном году в декабре 1952 г. польские дипломаты отмечали изменения в контингенте студентов: университет им. Ким Ир Сена и другие высшие учебные заведения «ныне принимают на обучение все больше студентов, забирая их даже с фронта» [2, л. 88]. Университет им. Ким Ир Сена в Пхеньяне был ведущим вузом страны, работая, несмотря на огромные трудности во время войны, с малыми перерывами. За это время он выпустил 290 специалистов, а подготовительный факультет – 45 [3, л. 150]. «В текущем году выпускники высших школ первый раз в период войны прошли дипломную практику. Студенты университета Ким Ир Сена начали ее в мае. Студенты медицинских институтов проходят дипломную практику на каникулах в больницах и клиниках на территории всей страны» [Там же, л. 106], – сообщал польский дипломат в августе 1953 г. В соответствии с постановлением правительства КНДР о высшей школе 1953 г. происходила реорганизация вузов: Институт русского языка в Пхеньяне был преобразован в Институт иностранных языков, а государственные музыкальная и художественная школы соответственно в государственные музыкальный и художественный институты. Срок обучения там был увеличен с 2 до 3 лет [Там же, л. 6].
Помощь КНДР в развитии образования в годы войны оказывали другие социалистические страны. В 1951 г. бумагу для учебников поставляли СССР и Румыния, а печатали их в северо-восточном Китае. Корейские студенты направлялись на учебу за границу: «…в Венгрию, Чехословакию и Польшу выезжает по 20 студентов, в СССР выехало 129 студентов, Народный Китай прислал 120 учителей для китайских школ в Корее». Кроме того, в северо-восточной части Китая «есть 86 начальных школ и 6 средних для корейских детей», оказавшихся вместе с родителями в эвакуации в Китае [1, л. 93–95]. Страны народной демократии в 1950-е годы принимали на обучение сотни корейских детей–сирот войны (о пребывании таких сирот в Польше см. подробнее: [7]).
Направляющая роль в развитии просвещения в стране принадлежала Трудовой партии Кореи (ТПК), жестко контролировавшей данную сферу. Польский дипломат в феврале 1953 г. доносил: «Одним из указаний V пленума ЦК ТПК является борьба за улучшение программ обучения в школьном образовании КНДР, которое не отвечает потребностям, которые ставят перед школьным образованием правительство и партия». Следствием пленума стало снятие с должности вице-министра просвещения Пак Хен Сика «за антинародную и антипартийную деятельность» [3, л. 4, 6–7]. Претворяя в жизнь указания пленума, на конференциях работников отделов просвещения местных органов власти и школ реализация учебных программ подвергалась критическому анализу, указывалось на необходимость приспособления этих программ к требованиям партии и правительства, а также разработки новых методов обучения. Перед старшими учителями ставилась задача передать свой опыт младшим коллегам, для этого министерство просвещения организовало краткосрочные курсы усовершенствования учителей [3, л. 73–74].
Подписание 27 июля 1953 г. перемирия в войне позволило начать перевод культуры в целом и просвещения в частности на мирные рельсы. VI Пленум ЦК ТПК в августе того года уделил внимание развитию этой сферы [3, л. 132]. В феврале 1955 г. польский посол отметил успехи в восстановлении материальной базы просвещения в КНДР: «От даты подписания перемирия построены следующие объекты: 181 начальная школа, 120 неполных и полных средних школ, 41 техникум, 13 общежитий, высшие учебные заведения… В одном только Пхеньяне построено в этот период 6 общежитий, 40 неполных и полных средних школ, 9 техникумов, 56 начальных школ, а также 1 политехнический институт и Центральная партийная школа, которая поставляет квалифицированные кадры для юстиции» [5, л. 17].
Проблемы школьного образования по-прежнему оставались приоритетными в развитии культурной сферы КНДР. Постановление правительства о подготовке к новому 1953/54 учебному году от
30 июля показывало направления действий северокорейского руководства по переводу школ на функционирование в условиях мира. Оно предусматривало расширение общего и создания новых форм профессионального образования, обязательность восстановления школ по мере воссоздания городов и деревень. Требовалось открыть закрытые во время войны школы согласно принципу «одна школа в каждом сельском районе», вернуть школам их здания, занятые во время войны иными учреждениями, обеспечить школы топливом на зимний период. Предписывалось также предоставить стипендии студентам педагогических институтов, а также выделить им и учителям школ по карточкам определенное количество риса по государственным ценам. Изменялись сроки обучения: сокращались в начальной школе с 5 до 4 лет и увеличивались в техникумах с 3 до 3,5 или 4 лет [3, л. 106–108].
О начавшемся 1953/54 учебном годе польский дипломат информировал в отчете следующим образом: «В этом году количество учащейся молодежи значительно возросло благодаря увеличению количества школ, которые были восстановлены или открыты после заключения перемирия. Самое большое количество этих образовательных учреждений открыто в прифронтовых провинциях». В провинции Канвон «начали нормальную работу 254 начальные школы, 71 неполная средняя, 13 средних, 2 техникума и 2 педагогические школы», а в пхеньянских начальных школах количество учеников выросло в этом году на 2,5 тыс. Восстановление зданий высших и средних школ будет проводить государство, а начальных – с использованием общественных взносов в соответствии с традициями. Планировалось к 1955 г. довести количество начальных школ до 3,96 тыс., а учеников до 1,5 млн., то есть достичь довоенного уровня. Такой же уровень в ближайшее время должен быть достигнут и в средних школах [Там же, л. 132]. В провинции Канвон «благодаря помощи местного населения передано в эксплуатацию 1950 школьных помещений, а также доставлено на зиму более 3000 м3 дерева для отопления» [Там же, л. 151].
С декабря 1953 г. были организованы более 300 четырехмесячных вечерних школ для взрослых с целью освоения материала в объеме трехлетней начальной, в которых обучалось около 25 тыс. человек. В преподавании взрослым активно участвовали на каникулах учителя и студенты. Кроме того, министерство промышленности организовало сеть краткосрочных профессиональных курсов при крупных промышленных предприятиях [Там же, л. 186].
С начала 1954 г. ввиду того, что начальные школы предполагалось строить на средства населения, по всей стране развернулась кампания по сбору этих средств, на митингах «рабочие заводов и фабрик, чиновники, крестьяне и представители средней и мелкой буржуазии жертвуют свою помощь на восстановление школ». В ходе кампании обнаружилось «очень серьезное обогащение на войне корейской буржуазии»: многие представителей мелкой и средней буржуазии жертвовали на цели восстановления школ крупные суммы – от 500 тыс. до 1 млн вон, а некоторые и 5 млн. вон. В марте жители Пхеньяна передали на восстановление школ 18 млн. вон, в трех провинциях собрано на эти цели 25 млн вон, а крестьяне сдали 82,5 т риса. Для развития просвещения предусматривалось также увеличить в 2,7 раза издание научных трудов, школьных учебников и пособий [4, л. 42–43].
Накануне нового 1954/55 учебного года Министерство просвещения КНДР сообщало об успехах в восстановлении школ, в большинстве своем осуществленном на общественные взносы. В Пхеньяне был сдано в эксплуатацию 30 начальных и средних школ, включая 5 современных многоэтажных, которые полностью обеспечены мебелью и оборудованием. Увеличилось количество школ в провинциях: в Канвоне восстановлено 28 зданий (2150 помещений), а Южном Хамгене – 51 (450 помещений). В Северном Хамгене, самом большом промышленном центре КНДР, восстановлено и построено 5203 школы, им выделено 224,9 тыс. единиц оборудования. В Северном Пхенане в том году восстановлено 2234 школьных помещения и построено 265. В наиболее пострадавшей от войны провинции Хванге с момента заключения перемирия восстановлено 5112 школьных помещений, в том числе 3520 в текущем году, школам предоставлено 163 тыс. пар лавок, досок и столов. Значительно увеличилось и количество учителей: Пхеньянский педагогический институт выпустил в том году 157 учителей, а педагогические институты в Синиджу, Канге и Чонджине – 332 преподавателя. Педагогические техникумы подготовили для начальных школ 1569 учителей, к которым добавились 3400 выпускников краткосрочных курсов. Значительно увеличились тиражи учебников, достигшие 4,6 млн. экземпляров, в том числе 17 наименований для начальных школ, 18 для средних, 13 для профессиональных школ, выпущено 28 наименований пособий и научных книг для высшей школы [4, л. 115–116].
Итоги развития школьного образования КНДР за 1954 г. были следующими: работали 3677 начальные и 1253 неполные и полные средние школы, 73 техникума и 16 высших школ, в которых количество обучавшихся по сравнению с 1953 г. выросло на 87 тыс., 44 тыс., 4,4 тыс. и 2,8 тыс. соответственно. В плане на 1955 г. предусматривалось довести количество начальных школ до 102,3% от уровня 1954 г., неполных средних школ – до 105,2%, полных средних школ – до 111,7%, институтов – до 106,3%, школ для сирот – до 112%, с одновременным ростом количества обучающихся. После реализации этого плана одна неполная средняя школа будет приходиться на четыре деревни и полная средняя на один уезд, а количество классов по сравнению с 1949 г. составит 126,6%, учеников – 107,8%. «С 1956 года планируется ввести во всей КНДР обязательное обучение в начальных школах» [5, л. 17–18], – доносил польский дипломат.
Закончившийся 1954/55 учебный год, в оценке польского дипломата, характеризовался «большими достижениями в развитии просвещения в Корее». По официальным данным в том году в начальных школах КНДР обучалось 1333 тыс. детей, в средних – 327 тыс., в начальных закрытых школах – 35 тыс. сирот войны. Несмотря на недостаток бумаги, росло количество изданных учебников и пособий: было издано 33 новых наименований школьных учебников общим тиражом 1,32 млн. экземпляров. Накануне следующего учебного года декрет правительства КНДР наметил меры по подготовке к нему: до 20 августа следовало освободить все здания министерства просвещения от посторонних организаций, завершить первоочередное восстановление школьных зданий, общежитий, столовых, спортивных площадок, выделить учителям жилье и перевести в школы всех не работающих по специальности преподавателей, организовать курсы повышения квалификации учителей и совершенствовать работу уже существующих [4, л. 97–98].
Как и в годы войны продолжалось изучение русского языка. В декабре 1954 г. польский посол сообщал, что в разных местностях Кореи организованы краткие курсы русского языка: 804 группы на фабриках, в учреждениях и других местах – 142. В том году их закончило 4700 человек. По сравнению с уровнем 1953 г. количество обучавшихся составило 147% [Там же, л. 148].
Окончание военных действий стимулировало развитие высшего образования, чему уделил внимание VI Пленум ЦК ТПК в августе 1953 г., назвав главным в развитии высшей школы восстановление всех довоенных вузов. Среди конкретных мер были: создание архитектурного института для подготовки руководящих кадров этой отрасли, направление 70% студентов на технические факультеты, создание вечерних школ и заочного обучения при всех технических учебных заведениях [3, л. 132]. Постановление правительства 1953 г. о совершенствовании обучения в высшей школе предусматривало увеличение сроков обучения: на медицинском факультете университета им. Ким Ир Сена и в медицинском институте в Хамхыне – с 4 до 5 лет, в институтах иностранных языков и педагогическом в Пхеньяне, сельскохозяйственном институте в Вонсане, на факультетах фармацевтики и гигиены медицинского института Пхеньяна – с 3 до 4 лет [Там же, л. 108].
К новому 1953/54 академическому году в университете им. Ким Ир Сена было восстановлено 11 лекционных залов и 3 общежития, что позволило университету частично переехать из-под Пхеньяна, где он находился во время войны, в столицу. 1 октября новый академический год начался в 16 вузах КНДР, куда поступило почти на 20% больше студентов, чем в прошлом году [Там же, л. 150]. Общее количество студентов в высших учебных заведениях страны в этом академическом году достигло 7,7 тыс. студентов [Там же, л. 97].
Со второй половины 1953 г. происходило создание новых вузов. 1 октября в Сонджу был открыт политико-экономический институт с одним факультетом, 28 кафедрами и 120 студентами, набор которых осуществлялся через партийные организации [Там же, л. 151]. Из института им. Ким Чака был выделен институт промышленного строительства, а также образован строительный институт, которые должны были обучать специалистов высшего технического звена для остро нуждающихся в них отраслях промышленности и строительства [3, л. 186]. В январе 1954 г. сообщалось о создании народнохозяйственного института с включением в него центральной школы кадров для руководящего государственного аппарата и политико-экономической академии. Новый институт состоял из факультетов с 3-годичным обучением: государственного строительства, промышленного планирования, статистики, бухгалтерии, внутренней и внешней торговли, кооперации, финансов и общей администрации, а также 6-месячных подготовительных курсов для тех, кто не имеет среднего образования. Студенты института должны были получать относительно высокие стипендии в размере от 800 до 1000 вон ежемесячно и питание. «Задачей института является подготовка в возможно самый короткий срок соответствующего количества новых руководящих кадров, происходящих из рабоче-крестьянской среды для основных сфер хозяйства КНДР» [4, л. 8–9], – докладывал польский дипломат.
Продолжались контакты в сфере образования КНДР с другими социалистическими странами. Сотрудник польского посольства в Пхеньяне доносил о посещении в марте 1955 г. двух средних школ в Пхеньяне, большая часть оснащения лабораторий которых была получена из Венгрии. Оттуда же была прислана часть оборудования для университета им. Ким Ир Сена [5, л. 45]. В академическом 1953/54 году в высших учебных заведениях Советского Союза и других стран народной демократии обучалось 3,7 тыс. корейских студентов [4, л. 97]. «Количество учащихся в средних и высших школах в СССР и странах народной демократии составило в 1954 году 4200 человек, – сообщал польский посол. – В то же время в КНДР обучается 3 монгольских студента» [5, л. 18].
В отчете посла Польши от апреля 1955 г. освещалась проблема обучавшейся в средних школах и высших учебных заведениях КНДР молодежи из Южной Кореи. Правительство КНДР предприняло шаги по усилению опеки над ними: более 1,8 тыс. южнокорейских студентов и учеников получили доплату в 80% к обычной государственной стипендии, бесплатную одежду, обувь и места в общежитиях. Постановление правительства КНДР также предусматривало, что в случае желания вернуться обратно в Южную Корею, каждый из них «сможет это сделать в любой момент, причем со стороны Правительства КНДР ему будет оказана вся требующаяся помощь». В связи с этим постановлением в Пхеньяне состоялся митинг, нашедший «широкий отклик среди молодежи Южной Кореи». Польский дипломат утверждал, что об этом «свидетельствует возрастающий отпор молодежи, особенно студенческой, против призыва ее на службу и военные учения, что проявляется в ряде акций, доходящих до школьных забастовок» [Там же, л. 38–39].
Освещению положения в сфере просвещения Южной Кореи в отчетах польских дипломатов отводилось незначительное место и, как правило, в негативном тоне. В отчете за ноябрь 1953 г. польский дипломат обрисовал неприглядное состояние южнокорейского просвещения: «Лисынмановский режим вводит большую экономию в бюджете государства также ценой расходов на просвещение. Показательным проявлением этого является лишение работы около 2 тысячи учителей, а также ассигнование из запланированной в государственном бюджете на просвещение суммы 258 000 000 вон лишь 11 500 000 вон». Приводились данные южнокорейского министерства просвещения об уровне неграмотности в Южной Корее по состоянию на октябрь 1953 г.: из 13,9 млн. человек населения полностью неграмотных было около 2,8 млн человек, в том числе в возрасте 12–16 лет – 325 тыс., 17–43 года – 1,43 млн, а свыше 44 лет – 1,2 млн Цифры сопровождались комментарием, что «эти данные далеки от фактически существующего положения вещей». «Даже эти фальсифицированные данные указывают на то, что в Южной Корее тысячи молодых людей школьного возраста лишены образования. Ведь школы нужны лисынмановскому режиму и американским оккупантам для казарм. За это американские представители «расы господ» отравляют корейскую молодежь в Южной Корее литературой порнографической, а также восхваляющей убийства и насилие. Ничего удивительного, что в Южной Корее уже заметны плоды американской культуры. Об этом говорят данные роста преступности среди молодежи» [3, л. 169–170], – делался вывод в отчете.
Некоторые сведения о послевоенном состоянии системы просвещения Южной Кореи польский посол сообщал в своих отчетах за 1955 г. В ноябрьском отчете он сообщал, что из 47,5 тыс. классных помещений, существовавших до войны, в Южной Корее уничтожено полностью 10,9 тыс., частично 12,1 тыс., то есть 48%. По плану же предусматривалось восстановить лишь 16,8 тыс. помещений, в школах не были созданы условия для обучения в зимний период и, несмотря на запрет властей, там взимается в данный сезон дополнительная плата [5, л. 208]. В декабрьском отчете сообщалось о закрытии в начале года 85 школ, увольнении на волне борьбы с инакомыслием 2,5 тыс. учителей (при нехватке в 10,4 тыс.), а большинство южнокорейских учителей чтобы выжить вынуждены сдавать за деньги кровь. В высшей школе введен принцип, в соответствии с которым поступить в вуз позволяют не только результаты экзаменов, но и «совокупность поведения и поступков в прошлом данного студента», для заканчивающих же обучение в вузах студентов введена обязанность прохождения военной службы [Там же, л. 247].
Сообщения польских дипломатов периода Корейской войны отражают крайне тяжелое состояние сферы просвещения, подчеркивают помощь КНДР со стороны других социалистических стран в деле обучения населения. В таких же отчетах после подписания перемирия акцентируется внимание на успехах в развитии просвещения Северной Кореи, особенно в высшем образовании. Документы польской дипломатии свидетельствуют о процессе постепенного восстановления и совершенствования системы просвещения в разных звеньях и на разных уровнях. Руководящая роль в развитии этой сферы принадлежала ТПК, на государственном уровне за нее отвечало министерство просвещения. Государство осуществляло жесткое директивное планирование развития системы просвещения от начальной школы и курсов для взрослых до высших учебных заведений. С положительными по тональности сообщениями из Северной Кореи контрастируют отрывочные негативные материалы польских дипломатов о состоянии просвещения в Южной Корее.
Список литературы Развитие просвещения в Корее в первой половине 1950-х гг.: с военных на мирные рельсы (по документам польской дипломатии)
- Архив Министерства иностранных дел Польской Республики. Ф. 11, оп. 22. д. 414.
- Архив Министерства иностранных дел Польской Республики. Ф. 11, оп. 23. д. 428.
- Архив Министерства иностранных дел Польской Республики. Ф. 11, оп. 23. д. 445.
- Архив Министерства иностранных дел Польской Республики. Ф. 11, оп. 46. д. 670.
- Архив Министерства иностранных дел Польской Республики. Ф. 12, оп. 17. д. 401.
- Ким И.К. Гражданское население Северной Кореи в первый год Корейской войны (по документам польской дипломатии)//Россия и Корея: взаимный интерес: материалы международной научной конференции (Краснодар, 21-23 октября 2014 г.). Краснодар: Кубанский университет, 2016. С. 89-95.
- Ким И.К. Дети-сироты Корейской войны в Польше в 1950-х годах//Межкультурные взаимодействия в условиях глобализации: опыт России и Кореи. -СПб.: Скифия-принт, 2012. С. 288-305.
- Ким И.К. Экономика Северной Кореи в начальный период Корейской войны (по документам польской дипломатии)//XVII Международная конференция по науке и технологии Россия-Корея-СНГ. Южно-Сахалинск, 15-17 июня 2017: материалы конференции. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. С. 131-135.