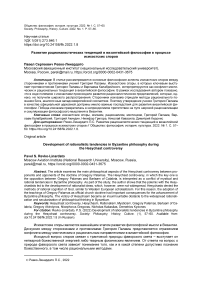Развитие рационалистических тенденций в византийской философии в процессе исихастских споров
Автор: Ревко-Линардато Павел Сергеевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные философские аспекты исихастских споров между сторонниками и противниками учения Григория Паламы. Исихастские споры, в которых ключевым выступает противостояние Григория Паламы и Варлаама Калабрийского, интерпретируются как конфликт мистических и рациональных тенденций в византийской философии. В рамках исследования автором показано, что в ходе полемики с исихастами происходило развитие рационалистических представлений, которые, однако, не получили широкого распространения. Сторонники исихазма отрицали методы рационального познания Бога, аналогичные западноевропейской схоластике. Поэтому утверждение учения Григория Паламы в качестве официальной церковной доктрины имело важные последствия для развития византийской философии. Победа исихазма превратилась в непреодолимое препятствие на пути широкой рационализации и секуляризации философского мышления в Византии.
Исихастские споры, исихазм, рационализм, мистицизм, григорий палама, варлаам калабрийский, григорий акиндин, никифор григора, николай кавасила, димитрий кидонис
Короткий адрес: https://sciup.org/149139666
IDR: 149139666 | УДК: 1 | DOI: 10.24158/fik.2022.1.8
Текст научной статьи Развитие рационалистических тенденций в византийской философии в процессе исихастских споров
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия, ,
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia, ,
Исихастские споры являются важнейшим этапом развития философской мысли в Византии. Дискуссия между сторонниками и противниками Григория Паламы представляется отражением конфликта между мистическим и рациональным направлениями в византийской философии.
Исходный вопрос споров связан с трактовкой природы фаворского света – выступает он нетварной божественной энергией либо тварным физическим явлением. От ответа на вопрос о природе фаворского света зависит понимание того, как и в какой степени допустимо познание божественного, в том числе рациональными методами.
В череде исихастских споров центральное место занимает противостояние Григория Паламы и Варлаама Калабрийского. Световые созерцания, о которых говорили исихасты, Варлаам объявил естественным, физическим, светом. Для человека единственным доступным способом увидеть Бога является возможность его вообразить при помощи материальных символов (Epistola IV) (Barlaam Calabro, 1954: 315). Как и Аристотель, Варлаам рассматривал ощущения в качестве инструментов познания. Однако Бог – нематериален, поэтому ощущения неспособны дать человеку знания о божественном. Поскольку божественная сущность находится за пределами мыслительных процессов, любые суждения о ней недоказуемы и не могут претендовать на истинность (Epistola ad Palaman I) (Barlaam Calabro, 1954: 308–310). Напротив, Палама исходил из того, что трансцендентный Бог присутствует в тварном мире. Если Варлаам занимал рациональную позицию и высоко ценил логические доводы, то исихасты отрицали решающую роль логики в познавательном процессе. По сути, Варлаам пришел к идее о независимости сферы мышления от церкви. Таким образом, его учение можно трактовать как попытку привнести в византийское богословие тенденции, на которых развивалась западноевропейская схоластика. В связи с этим уместно вспомнить, что сам Палама дал Варлааму прозвище Λατινέλλην, т. е. «Латиноэллин», что на русский язык часто переводится как «латиноязычник» (Триады. III, 3, 10, 16) (Григорий Палама, 1995).
Противники исихазма следовали характерным для византийской философии путем совмещения логики и гносеологии аристотелизма с метафизикой платонизма. Поскольку божественная реальность не поддается логическому объяснению, к трансцендентному Богу нельзя применять логические доказательства. Исходя из таких рассуждений, Варлаам ограничивал возможность разума человека в познании Бога. Одновременно он выступил решительно против идеи о возможности опытного приобщения человека к божественному. Так, Варлаам Калабрийский встал на рационалистические позиции, желая достичь единственно возможное, хотя, конечно, и ограниченное, рассудочно-понятийное постижение Бога.
Вслед за Варлаамом совместить веру и рационально-методический подход к интерпретации трудов Отцов Церкви, как это делали представители западноевропейской схоластики, попытался Григорий Акиндин. Ученик Григория Паламы, первоначально он попытался выступить в качестве посредника между учителем и Варлаамом Калабрийским. Желая примирить двух оппонентов, Акиндин утверждал, что Варлаам разумно высказывается и рассудительно доказывает свою позицию, а Паламе дает возможность рассуждать таким образом, чтобы сделать возможным доказательство божественных вещей (Epistulae 5) (Letters of Gregory Akindynos…, 1983). После осуждения Варлаама Акиндин попытался он него показательно дистанцироваться. Он подчеркивал свое расхождение с Варлаамом во взглядах на сущность фаворского света, заявляя, что для человека свет является «невидимым и непостижимым через физическое проявление» (Epistulae 20, 50) (Letters of Gregory Akindynos…, 1983). Несмотря на это, учение Акиндина также было осуждено официальной церковью на Константинопольском соборе в 1347 г.
Монах Давид Дисипат обрушился с яростной критикой и на Варлаама Калабрийского и Григория Акиндина. Он обвинил Варлаама в утверждении, «что не существует иного Божественного света, кроме знания и пустой философии эллинских наук» (Давид Дисипат, 2011: 121). Увлекшись античной философией, Варлаам якобы стремился доказать, что фаворский свет «материальный и тленный» (Давид Дисипат, 2011: 122). При этом Дисипат не делал различия между позициями Варлаама и Акиндина, подчеркивая: «Что мыслит Варлаам, то мыслит и Акиндин. И пусть никто не воспримет от кого-либо, будто Акиндин чем-либо отличается от Варлаама в догматах» (Давид Дисипат, 2011: 135). Такие заявления Дисипата объясняются его желанием показать, что Григорий тоже попадает под решение церковного собора 1341 г., на котором был осужден Варлаам. Как полемист Дисипат не ставил себе целью объективно изложить учения своих оппонентов, он преподносил их доводы своими словами, в случае необходимости искажая их смысл.
Никифор Григора продолжил полемику с Григорием Паламой, но при этом не сходился во взглядах и с Калабрийцем. И Варлаам, и Никифор высоко ценили восходящее к Аристотелю понимание научного доказательства. Однако, в то время как Варлаам устремился к логическому анализу тонкостей силлогистики, Никифор обратился к критике эмпиризма Аристотеля с позиций платонизма. Когда Никифор Григора вступал в публичную полемику с Григорием Паламой, для построения своей системы аргументации он опирался на логику. Тем не менее логика и силлогизмы, по мнению Григоры, применимы исключительно к знаниям о чувственно воспринимаемых вещах. Видимо, позиция Григоры восходит к Плотину, который различал логику и диалектику (Ierodiakonou, 2002: 223–224). Аналогично различению божественной и человеческой природы Никифор Григора заявил о наличии различия между божественным и человеческим знанием (Никифор Григора, 2016: 354). Божественная природа выше любых понятий и определений: «Никогда не может быть познано то неописуемое, что присуще сущности» (Никифор Григора, 2016:
269). Григора пишет, что «у ока души, то есть ума, есть два инструмента для познания чувственных вещей – чувственное восприятие и мышление» (Никифор Григора, 2016: 352). На их основе формируется человеческое знание. Чувственное восприятие предоставляет неупорядоченные первые начала знания, а мышление их направляет «в единую мастерскую точнейшего исследования, то есть ум, и там переплавляет в единство и согласие опытного знания» (Никифор Григора, 2016: 352).
Возможность существования нетварной божественной энергии, отличимой от сущности Бога, Григора отрицал и заявлял, что «энергия у Бога – одно и то же с сущностью» (Никифор Григора, 2016: 364). Он не мог согласиться с Паламой, согласно которому сущность и энергия являются нетварными, но «одно – сущность, а другое – бессущностное, то есть энергия» (Никифор Григора, 2016: 365).
Никифор Григора, как и Григорий Акиндин, считал, что материальные символы, которые доступны для человеческих ощущений, являются средством приближения к божественному. Также для Варлаама фаворский свет – лишь только «символ божества» (Триады. III, 1, 11) (Григорий Палама, 1995). Мистический опыт исихастов видения фаворского света он объяснял воображением c помощью материальных символов. Этот символизм был противопоставлен мистическому способу познания Бога исихастов.
Оппонент Никифора Григоры – Николай Кавасила – сконцентрировался на анализе философских проблем и предложил формальные философские опровержения, демонстрируя противоречия в тенденциозно отобранных им цитатах (Красиков, 1997: 99). Кавасила критиковал Григору за то, что «у него все наполнено материей» (Николай Кавасила, 1997: 106) и «телесно он берется даже за науки» (Николай Кавасила, 1997: 106–107).
Кавасила был осторожен в выборе позиции по вопросам о природе фаворского света и различении в Боге сущности и энергий. Возможно, он не соглашался с использованием психофизического метода молитвы для достижения видения нетварного света, что являлось важнейшим положением исихастов (Αγγελοπούλου, 1970: 78). Однако следует понимать, что видение нетвар-ного света не есть главная цель исихастов. Познание Кавасила относил прежде всего к области мистического опыта: «Посредством священных таинств возможно стало людям познавать и совершать истинную правду» (Николай Кавасила, 1991: 12). Следовательно, не система логических, рациональных доказательств ведет человека к богопознанию, но церковные таинства. Благодаря мистическим таинствам непознаваемый по сущности Бог постигается через энергию.
К числу ярких противников исихастской мистики относился Димитрий Кидонис – знаток западноевропейской философии, переводчик на греческий язык трудов Фомы Аквинского и Ансельма Кентерберийского. Он указывал на слабость методологических принципов сторонников Паламы и применял против исихастов систему рациональных доказательств, близкую к методологии схоластов. Кидонис открыто использовал против исихазма аргументацию западноевропейской теологии и философии, прежде всего томизма. По убеждению Кидониса, в процессе теологического познания недостаточно одних силлогизмов, что связано с несовершенством человеческого разума. Однако разум – это то, что отличает человека от животных, и то, что приближает его Богу. Не следует забывать, что сам Бог даровал людям разум и веру. Следовательно, разум и вера не могут находиться в состоянии противоречия. Наоборот, путь к истине заключается в их согласии. Кидонис указывал на важность как аподиктических силлогизмов, так и диалектических силлогизмов. В этом он расходился с Варлаамом, который говорил о пользе диалектических силлогизмов, выводимых из текстов Священного Писания, но не признавал значения аподиктических силлогизмов естественного разума (Demetracopoulos, 2012).
В целом можно заметить, что как сторонники, так и противники исихазма ориентировались на апофатическое богословие, которое основывается на представлении о непознаваемости божественного. Однако причиной непознаваемости может быть либо несовершенство разума человека, либо абсолютная трансцендентность божественного, онтологическая неприступность. Григорий Палама исходил из второго объяснения. В свою очередь, Варлаам допускал познание Бога человеческим разумом, хотя и не слишком высоко оценивал его способности, фактически также придя к выводу о непознаваемости Бога. При этом Григорий Акиндин и Никифор Григора, отрицая паламизм, не спешили занять позицию Варлаама. Они склонялись к представлениям о возможности постижения божественной сущности.
Необходимо признать, что противники Григория Паламы не являлись последовательными создателями каких-либо систематизированных рациональных концепций в византийской философии. Кроме того, отрицание паламизма не всегда означало отрицание исихазма как такового. Так, Григорий Акиндин и Никифор Григора, выступая против Григория Паламы, не отождествляли его учение с исихазмом (Байер, 2000). Оппоненты Паламы не отличались единством взглядов, они не стремились к разработке стройной и цельной теоретической концепции. Данное обстоятельство в итоге облегчило победу исихастам, которые выступали с относительно единых позиций, сформированных на основе системы богословских и философских взглядов Григория Паламы.
В отличие от Западной Европы в Византии рационалистические тенденции не получили массового распространения. Официальная церковь подавила рационалистические идеи, отказавшись от попыток поиска нового синтеза античной философии и христианских догматов. Рационалистический посыл не смог выйти за пределы узкого слоя интеллектуальной элиты. В результате богословие в Византии отказалось от осмысления божественного на основании рациональных философских систем.
Список литературы Развитие рационалистических тенденций в византийской философии в процессе исихастских споров
- Байер Х.Ф. Участие Ирины Евлогии Хумнены в исихастском противоборстве XIV в. // Античная древность и Средние века. 2000. Вып. 31. С. 297-322.
- Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 1995. 384 с.
- Давид Дисипат, монах. Полемические сочинения. История и богословие паламитских споров. М.; Святая гора Афон, 2011. 312 с.
- Красиков C.B. Идейная полемика в Византии 50-х гг. XIV в.: Николай Кавасила и Никифор Григора // Античная древность и Средние века. 1997. Вып. 28. С. 93-109.
- Никифор Григора. История ромеев : в 3 т. / пер. с греч. Р.В. Яшунского. Т. 3. СПб., 2016. 488 с.
- Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе : пер. с греч. : репринт. изд. 1874 г. М., 1991. 198 с.
- Николай Кавасила. Слово против нелепостей Григоры / пер. с греч. С.В. Красикова // Античная древность и Средние века. 1997. Вып. 28. С. 104-109.
- Barlaam Calabro. Epistole greche; i primordi episodici e dottrinari delle lotte esicaste. Palermo, 1954. 360 p.
- Demetracopoulos J.A. Thomas Aquinas' Impact on Late Byzantine Theology and Philosophy: The Issues of Method or "Modus Sciendi" and "Dignitas Hominis" // Knotenpunkt Byzanz: Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen / ed. by A. Speer, Ph. Steinkruger. Berlin; Boston, 2012. P. 333-410. https://doi.org/10.1515/9783110272314.333.
- lerodiakonou K. The Anti-Logical Movement the Fourteenth Century // Byzantine Philosophy and its Ancient Sources. Oxford, 2002. P. 219-238.
- Letters of Gregory Akindynos: Greek text and English translation / ed. by A. Constantinides Hero. Washington, 1983. 465 p. AyyeAotouAou A.A. NiKoAao^ KapaaiAa<; Ха^агто^: 'H Z^n Kai то EpYov аитои. OsaaaAovlKri, 1970. 177 a.