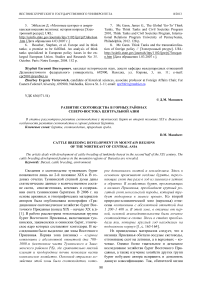Развитие скотоводства в горных районах северо-востока Центральной Азии
Автор: Маншеев Доржа Михайлович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено развитие скотоводства у тункинских бурят во второй половине XIX в. Выявлены особенности развития скотоводства в горных районах Бурятии.
Буряты, скотоводство, природная среда
Короткий адрес: https://sciup.org/148182024
IDR: 148182024 | УДК: 636(571.54)
Текст научной статьи Развитие скотоводства в горных районах северо-востока Центральной Азии
Сведения о скотоводстве тункинских бурят появляются лишь во 2-й половине XIX в. В годовых отчетах Тункинской степной думы даны статистические данные о количественном составе скота, сенозаготовках, кочевках и содержании скота тункинскими бурятами. В 2006 г. на основе архивных и этнографических материалов автором была опубликована монография «Традиционное скотоводческое хозяйство бурят Восточного Присаянья (конец XIX – начало XX в.)» [1]. В работе рассмотрена этнолокальная группа бурят Восточного Присаянья, включающая тун-кинских, закаменских и окинских бурят, этническое ядро которых составляют хонгодоры. В исследовании было выделено две зоны Восточного Присаянья. Первая зона (низины) – «горные котловины с абсолютной отметкой дна 700– 1000 м (восточные части Тункинского и Зака-менского районов РБ), где сравнительно мягкий климат и плодородные почвы позволяли вести комплексное хозяйство. Основной отраслью хозяйства этой зоны было скотоводство, кото- рое дополнялось охотой и земледелием. Здесь в основном проживают оседлые буряты, перегоняющие скот два раза в год из зимника в летник и обратно. В хозяйствах бурят, проживающих в низинах Присаянья, преобладает крупный рогатый скот монгольской породы, который требует подкормки в зимнее время». Ко второй природно-климатической зоне (верховья) отнесены «котловины с абсолютной отметкой дна 1 200–1 400 м. В этой зоне, в отличие от первой, основой жизнедеятельности были кочевое скотоводство и охота. Здесь в стадах преобладали яки, которые круглый год находились на подножном корму» [1, с. 163-164].
Из приведенных материалов следует, что в низинах Присаянья обитали оседлые скотоводы, отгонявшие скот на летники, а в верховьях – кочевые. Однако более тщательное и детальное исследование хозяйства бурят Восточного При-саянья, а также изучение хозяйств других групп бурят побудило автора исправить и дополнить данную классификацию. Так, обитателей низин
Присаянья необходимо отнести к полуоседлым скотоводам, т. к. они не отгоняли скот на летники, а полноценно перекочевывали с зимников на летники и обратно со всей семьей и скотом. Отгон же связан с перегоном части скота, преимущественно взрослого (табун лошадей, стадо яков), который может быстро и без существенных потерь перебраться на дальние пастбища или в труднодоступные горные долины. Отгон скота совершался не всей семьей, а только мужчинами, наиболее сильными и способными к пастьбе в суровых условиях высокогорий, сухих степей или пустынь вдали от постоянных стойбищ. Бурят верховий Восточного Присаянья необходимо отнести к полуоседлым скотоводам, которые сочетали полуоседлое скотоводство с отгонным (яйлажным). Буряты верховий отгоняли свой скот на альпийские луга Восточного Саяна и Хамар-Дабана в Монголии.
Исследователи традиционного хозяйства бурят часто путают отгон скота на те или иные пастбища с полноценными перекочевками скотоводов. Для ясности процитируем слова Г.Р. Галдановой: «(У бурят, проживавших в верховьях Закамны. - Д.М.), сезонные циклические перекочевки в связи с перегоном стада с одного пастбища на другое совершали взрослые работоспособные члены семьи (главным образом молодые мужчины). Каждая группа населения хорошо знала маршруты своих сезонных кочевок, т. к. пастбища были фиксированы на определенной местности. Например, часть бурят, населявших улус Цаган-Морин и его окрестности, летом проживала в местности Хонтобой, осенью перебиралась в местность Мэлэ, где сохранялось много хорошей отавы, сухой травы (хагдан), потому что скот здесь летом не выпасался, затем откочевывала в местность Ба-руун hондино, далее - в Зээрэнхэ - на этих стоянках животные кормились сухой травой. С наступлением зимы возвращались в Цаган-Морин, и животные питались сухой травой на зимних заимках; кроме того, их кормили травой, скошенной на сенокосных участках - бууса. <...>. Скормив сено, заготовленное в Цаган-Морине, скотоводы перебирались со стадом в Хонтобой; это приходилось чаще всего ко времени наступления Сагаалгана (буддийский Новый год, отмечаемый обычно в феврале). В Хонтобое находились около двух месяцев (март - апрель) и, опустошив ограду с сеном, снова передвигались в другие места - Мэлэ, Нондино» [2, с. 52-53]. Анализ текста иллюстрирует отгонное скотоводство бурят, совершаемое молодыми мужчинами верховий Закамны в разные сезоны года, а не перекочевку всей семьи со скотом. Также видно наличие у закаменских бурят заготовок сена на летней стоянке в Хонто-бое, куда зимой отгонялся скот для прокорма сеном. По-видимому, здесь приводится ситуация в хозяйстве закаменских бурят, возникшая в начале XX в., которая отражает процесс перехода закаменских бурят от полуоседлого скотоводства с двухразовыми перекочевками к отгонному скотоводству.
В исследуемый период в состав Тункинского ведомства входили территории Тункинского и Окинского районов современной Бурятии. Следовательно, если в архивных источниках XIX в. идет речь о тункинских бурятах, то в это понятие необходимо включать и бурят, обитавших в верховьях долины р. Оки.
Восточное Присаянье отличается обилием водных ресурсов. Луга, находящиеся вдоль многочисленных рек и речек, не испытывали недостатка во влаге. Летние пастбища присаянских бурят, устраиваемые в степных урочищах и альпийских лугах, увлажнялись атмосферными осадками, частыми в теплое время года. Засухи в Присаянье – очень редкое явление. Высокие горные хребты Тункинских гольцов и Хамар-Дабана препятствуют быстрому проникновению в долины холодных воздушных масс с северо-запада и теплых с юго-востока. В результате в Присаянье сложился особый микроклимат со сравнительно стабильными погодными явлениями. Однако долины Присаянья характеризуются ограниченностью лугов, окруженных тайгой. Относительно благоприятные климатические условия горных долин и обилие трав позволили тункинским бурятам без особых потерь развивать здесь скотоводство. Во 2-й половине XIX в. численность скота тункинцев увеличилась с 32 561 головы в 1861 г. до 59 514 в 1883 г. Выросло число скота и на душу населения – с 2,9 до 4,5 головы.
Успешному развитию скотоводства тункин-ских бурят не помешали и эпизоотии на КРС, происходившие во 2-й половине XIX в. В При-саянье чаще случалась чума (милан) крупного рогатого скота, куда она заносилась скотом, прогоняемым скотопромышленниками из Монголии в г. Иркутск через Санагинский караул Закаменского ведомства и Мондинский караул Тункинского ведомства. Так, в первых числах октября 1891 г. в Иркутское окружное полицейское управление поступило донесение о том, что в пригнанном из Монголии гурте скота, принадлежащем Минусинскому скотопромышленнику Боброву, который находился около с. Шимки Тункинской волости, появилась болезнь, которой поражены 73 и погибли 53 головы [3]. Так- же чума заносилась караванами торговцев, которые везли зараженное сено, свежую кожу животных, мясо, масло, купленные в Монголии. Центральные области Монголии считались очагом чумной заразы скота как для Китая, так и для Северной Монголии, в т. ч. и для Предбай-калья, и Забайкалья [4, с. 35].
С 1870-х гг. в архивных материалах Тункин-ской степной думы зафиксированы случаи заболевания чумой скота тункинских бурят. В отчете Тункинской степной думы за 1878 г. пишется: «<...> с 13 июля по 10 октября в с. Тукуренском была чума рогатого скота, занесенная сюда из Монголии, от коей из 298 штук наличного скота пало 54 и с 19 по 30 ноября в улусе Шабуртол-гойской из 242 штук рогатого скота пало 54 штуки. Эпизоотия эта прекратилась с принятием против нее дезинфекционно-санитарных мер, проведенных иркутским губернским ветеринаром господином Гросманом ». Этот факт был зафиксирован в 31-м номере «Иркутских губернских ведомостей» за 1878 г. [5]. В 1883 г. степная дума зафиксировала еще одну вспышку чумы среди КРС в ведомстве тункинских бурят. В том году из 27 426 голов КРС заболело 27. Вспышка чумы была быстро заблокирована, заболевший скот выздоровел, и падежа скота не произошло [6].
В конце XIX в. для предупреждения прогона зараженного скота из Монголии Иркутским окружным полицейским управлением были организованы ветеринарные кордоны в Санагинском и Мондинском караулах, через которые гнали купленные в Монголии гурты животных. В этих кордонах скот задерживали для ветеринарного осмотра по поводу выявления болезней. При провозе торговцами продуктов животноводства из Монголии через земли Тункинского и Зака-менского ведомств возчикам товаров запрещалось останавливаться в селениях. Если вокруг них имелись объездные дороги, возы должны были объезжать селения. Товар на возах предписывалось укрывать самым тщательным образом. Во время провода подвод местные жители должны были держать свой скот во дворах [7]. В случае вспышки болезни предусматривалось отделение здорового скота от больного. За больными животными должны были ухаживать люди, которым запрещался доступ к здоровым животным. Кроме этого, предусматривалась дезинфекция как пастухов и ветеринаров, так и мест содержания скота. Было предписано зарывать павших животных в яму глубиной в три аршина, чтобы звери и насекомые не могли способствовать дальнейшему распространению заразной болезни. Были установлены запреты вы- паса и перегона здорового скота по зараженной местности [8].
Таким образом, введение администрацией Иркутской губернии ветеринарной службы на территории Тункинского ведомства оградило скот тункинских бурят от массовых эпизоотий. Несмотря на введение администрацией Иркутской губернии и Забайкальской области ветеринарной службы на территории проживания предбайкальских и забайкальских бурят, эта служба не удовлетворяла потребностям скотоводческого хозяйства в ветеринарных врачах, не говоря о медикаментах для вакцинации скота. Так, в Селенгинском округе Забайкальской области был всего один ветеринарный врач. Такая же ситуация сложилась и в бурятских ведомствах Предбайкалья [4, с. 41].
Крупный рогатый скот был основным богатством тункинских бурят. Их численность выросла с 12 962 голов в 1861 г. до 27 426 в 1883 г., всего на 14 464. В числе КРС считались и яки, которых разводили в верховьях Восточного Присаянья (в Мондинской котловине и в долине р. Оки).
На втором месте по количеству голов находились лошади. Численность лошадей выросла с 12 310 голов до 16 742 головы, а их удельный вес сократился с 37,81 до 28,13%, всего на 9,68%. Уменьшение доли лошадей в стаде произошло в результате увеличения КРС и овец в стаде. Со временем буряты стали уделять больше внимания размножению КРС и овец, т.к. мясо этих животных пользовалось повышенным спросом на рынках городов и промышленных зон.
Выросла и численность овец с 5635 до 14 272 голов, всего на 8 637 голов. Однако удельный вес овец в стаде был в два раза ниже, чем доля КРС. Спрос на овечью шерсть из Тун-кинского ведомства практически отсутствовал. К тому же преобладающие в Присаянье луговые степи не способствовали их размножению. Численность же коз упала с 780 до 357 голов.
В ведомстве тункинских бурят числились северные олени. Районами их обитания в Приса-янье служили верховья р. Иркута и Оки. Здесь с древних времен жили сойоты, хозяйственной деятельностью которых были охота и оленеводство. К концу XIX в. сойоты смешались с бурятами и стали заниматься скотоводством. И только их незначительная часть продолжала заниматься охотой и оленеводством. Численность оленей у сойотов постепенно сокращается, и к 1883 г. их количество достигло 357 голов.
Во 2-й половине XIX в. в ведомстве тункин-ских бурят расширились посевные площади, что привело к развитию здесь свиноводства. В Тун-кинском ведомстве численность свиней росла соответственно росту пахотных земель. К 1878 г. число свиней достигло рекордной величины – 1 241 головы. В последующие годы сокращение урожайности зерновых культур привело к уменьшению свиней до 314 голов.
Выше мы уже отмечали, что тункинские буряты кочевали два раза в год. Эти сведения мы нашли в годовом отчете Тункинской степной думы за 1861 г.: « Тункинские инородцы кочуют по два раза с одного места на другое расстоянием от 3 до 15 верст. В 1-х, в исходе мая из зимних юрт в летние, где и проживают три месяца, причина же их кочевья та, что на оставляемых ими зимних жилищах произрастают лучшие сенокосные травы, что называются утуги, и, во 2-х, с сентября по выкошении тех трав и уборки сена в стога кочуют обратно, где проживают остальную часть года. В летнее время инородцы приготовляют паровые земли для посева разного рода хлеба, заготовляют для скота сено, производят промысел зверей, а также заготовляют на годовую пропорцию дрова » [9]. Оседлая же часть « инородцев <…> хотя и проживают русским домами, но занимаются наравне с кочующими инородцами зверопромышленностью и скотоводством, а потому согласно 3 ст. 2 том. св. закон. Принадлежат так же к 2-му разряду » [10].
В конце XIX в. среди тункинцев, как впрочем и среди остальных групп предбайкальских бурят, появляются богатые скотовладельцы, которые круглый год живут на зимниках. Для них удобнее было жить на два дома – часть скота отправлялась с работниками на заимки, а часть оставалась на зимнике. Кроме того, у этих бурят имелись юрты и в летниках, куда они отправляли третью часть своего скота [11, с. 8].
О соотношении различных видов хозяйственной деятельности тункинцев можно судить по прибыли, полученной ими в 1861 г. от продажи скота и шкур. В том году было продано разных пород скота на сумму 4 369 р. 50 коп. и звериных шкур – на 1 766 р. «Хлеба продано в казну не было кроме сего другой торговли инородцы не имеют, а также местных изделий и произведений в продажу не поступало». Из приведенных выше архивных материалов видно, что основной доход был получен от продажи скота. Следовательно, скотоводство было основным видом деятельности тункинцев. В конце XIX в. земледелие тункинцев превращается в товарную отрасль хозяйства. Тем не менее ограниченность пространств Тунки, удобных для земледелия, не позволила вывести этот эту часть экономики бурят на передовые позиции.
Тункинские буряты уделяли много внимания заготовке кормов для скота, т. к. зимой он, за исключением яков и гулевых лошадей, получал подкормку. Так в 1861 г. в ведомстве тункин-ских бурят числилось 7 816 дес. покосов и 5 528 дес. пашни. В том году было заготовлено 505 112 пудов сена, на одну голову скота пришлось 15,51 пуда, или 248,16 кг сена. « Сено за употреблением жителями на прокорм скота продаваемо не было » [12].
В 1873 г. тункинцы заготовили 596 709 пудов сена, а в 1874 г. – 397 806, т.е. на 198 903 пуда меньше, чем в предыдущем году, так как « сухая, безветренная и жаркая погода не благоприятствовала произрастению трав и хлебов » [13]. Уменьшение сенозаготовок в Тункинском ведомстве происходило и из-за наводнений. Так, в 1882 г. тункинцами было заготовлено 994 392 пуда сена, а в следующем 1883 г. – 928 979, или на 65 413 пуда меньше, чем в предыдущем году. В объяснении Степной думы о причинах уменьшения сенозаготовок пишется: « В нынешнем голу много покосов затоплено было прибылью Иркута, в следствие чего и сена собрано против прошлаго года менее » [14].
К 1886 г. размеры сенокосных земель расширились до 36 388 дес., а пахотных – до 10 717 ¼ дес. В том году тункинские буряты заготовили 918 763 пуда сена, а годом ранее, т.е. в 1885 г. – 927 672 пуда. Следовательно, в 1886 г. сена заготовлено меньше, чем в 1885 г. на 8 909 пудов. « Сена поставлено несколько менее вследствие жаркого лета и малых дождей » [15].
В конце XIX в. из-за дефицита покосов у тункинских бурят так же, как и у балаганских и аларских бурят, появляются заимки. Здесь часть скота находилась всю зиму или несколько месяцев в зависимости от количества сена, заготовленного летом [11, с. 9]. Таким образом, относительно благоприятные условия Тункинского ведомства обусловили поступательное развитие скотоводства местных бурят.
В начале 1860-х гг. удельный вес деревянных юрт в Тункинском ведомстве был довольно-таки высоким. Так, в 1861 г. в ведомстве тун-кинских бурят числилось 4 236 (67,52%) деревянных юрт и 2 038 (32,48%) домов. К 1883 г. численность юрт увеличилось до 4 190 (62,08%) шт., а домов – до 2 560 (37,92%) [16]. В исследуемый период удельный вес юрт в Тункинском ведомстве был сопоставим аналогичным показателям Кудинского и Верхоленского ведомств. Таким образом, к концу XIX в. сохранность тра- диционной культуры тункинцев была на достаточно высоком уровне.