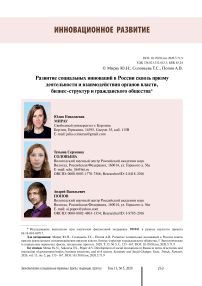Развитие социальных инноваций в России сквозь призму деятельности и взаимодействия органов власти, бизнес-структур и гражданского общества
Автор: Мирау Юлия Николаевна, Соловьева Татьяна Сергеевна, Попов Андрей Васильевич
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Инновационное развитие
Статья в выпуске: 5 т.13, 2020 года.
Бесплатный доступ
В условиях нарастания глобальных социально-экономических и экологических вызовов (старение населения, изменение климата, поляризация общества и т. д.) в современном мире происходит переосмысление места и роли инноваций в преодолении угроз общественному развитию. Исследователи отмечают сдвиг инновационной парадигмы в сторону социальных инноваций, поскольку признается, что исключительно за счет технологических нововведений достичь кардинального улучшения ситуации не представляется возможным. В то же время многие существующие проблемы нельзя решить посредством усилий какого-то одного актора - необходимым условием становится межсекторальное сотрудничество. В отношении развития социальных инноваций этот аспект имеет ключевое значение. Цель исследования заключалась в анализе развития социальных инноваций в Российской Федерации на основе акторного подхода, предполагающего рассмотрение данного феномена сквозь призму деятельности различных субъектов и их взаимодействия. Использованы общенаучные методы: дискурс-анализ, обобщение, сравнение и т. д. Представлены сущностные основы и роль социальных инноваций в решении актуальных проблем общества. На примере государственных структур, крупного бизнеса и гражданского общества рассмотрены особенности становления социальных инноваций в России. Показано, что развитие социальных инноваций зависит от их интерпретации в общественном дискурсе, включенности в стратегии деятельности различных акторов, а также межсекторального сотрудничества в инновационном процессе. В заключение определены перспективы развития изучаемого феномена в контексте выявленных тенденций и специфики взаимоотношений обозначенных акторов. Полученные результаты могут быть использованы не только в качестве эмпирической основы для дальнейшего углубления исследования, но и представлять практическую значимость при разработке конкретных управленческих решений в данной сфере.
Социальные инновации, межсекторальное взаимодействие, гражданское общество, социальное предпринимательство, социальная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/147225277
IDR: 147225277 | УДК: 334.021:332.012.3 | DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.9
Текст научной статьи Развитие социальных инноваций в России сквозь призму деятельности и взаимодействия органов власти, бизнес-структур и гражданского общества
Усиление глобальных вызовов современности приводит к необходимости поиска новых, более эффективных, чем существующие, инструментов их преодоления. В связи с этим концепция социальных инноваций заняла прочное место среди приоритетных направлений развития социальной экономики европейских стран, в частности, она выступает центральным элементом стратегии «Европа 2020»1, нацеленной на обеспечение разумного, устойчивого и инклюзивного роста. Научное сообщество также активно обратилось к изучению этого явления. За последние десятилетия было реализовано значительное количество исследовательских проектов по развитию теории и практики социальных инноваций (BENISI, CRESSI, SI-DRIVE, SIMPACT, TEPSIE, TRANSITION2 и др.; более подробно см. в [1]). В общественном дискурсе укоренилась точка зрения о социальных инновациях как движущей силе социальных изменений, способствующих улучшению качества жизни населения. Широкое распространение получила дискуссия о возможностях вовлечения разнообразных акторов в инновационный процесс по преодолению острых социальных вызовов. В ходе этого обсуждения рассматриваются самые различные варианты межсекторального взаимодействия: от линейных попарных моделей до масштабных сетевых структур. При этом особое внимание уделяется формированию благоприятной среды для развития социальных инноваций, в рамках которой создаются стимулы для взаимовыгодного сотрудничества по типу природных экосистем [2, с. 11]. В результате обозначенных процессов сформировалась обширная инфраструктура поддержки.
Инновационный характер предлагаемых решений зачастую позволяет социальным проектам быть успешными в тех случаях, когда государство и рынок не могут продемонстрировать свою эффективность3. В деятельности правительств развитых стран все сильнее наблюдается тенденция к делегированию части своих социальных обязательств внешним исполнителям посредством механизмов социального аутсорсинга, государственно-частного партнерства и т. д. В итоге происходит деформация сложившихся взаимоотношений между государством и обществом в контексте обеспечения социальных гарантий. Возрастающее значение социальных инноваций и ожидания, с ними связанные, приводят к постановке фундаментальных вопросов о способности различных акторов противостоять современным вызовам, о необходимости и возможностях межсекторального взаимодействия для их преодоления, а также о разделении обязанностей между коллективом и индивидом в данном контексте [3]. Многие исследователи склонны считать, что концепция социальных инноваций отлично вписывается в современную политику социального государства [4], раскрывая потенциал гражданского общества для поддержки незащищенных слоев населения. При этом наиболее успешные практики могут институционализироваться, превращаясь в формальные нормы и правила. Существуют и противоположные точки зрения, когда развитие социальных инноваций связывают с переходом от принципов государства всеобщего благосостояния к индивидуальной и групповой ответственности за будущее социума [5]. В этом случае оптимизация бюджетных расходов на социальную политику происходит за счет перекладывания части обязательств на граждан.
Обозначенные вопросы актуализируют важность накопления эмпирического знания о развитии социальных инноваций для определения перспектив эволюции данного феномена в контексте преодоления угроз и вызовов современности. В то же время развитие социальных инноваций во многом зависит от соответствующего национального/регионального контекста. К примеру, в Германии в официальных страте- гических документах (в частности в Национальной стратегии высоких технологий4) инновационная концепция представлена в расширенной форме и включает в себя не только технологические, но и социальные инновации. В данном случае продвижение социальных инноваций встроено в общую инновационную политику, предложено определение этого термина и обозначено стремление поддерживать их развитие на федеральном уровне. В России, напротив, отсутствует системное видение рассматриваемого феномена на государственном уровне, что отражается в четкой ориентации политического курса на развитие технологических инноваций, а социальные нововведения только вскользь упоминаются в нескольких документах. Тем не менее подобного рода практики получили весьма широкое распространение.
Целью настоящей статьи выступает анализ развития социальных инноваций сквозь призму деятельности и взаимодействия различных акторов на примере России. Согласно ст. 7 Конституции Российская Федерация является социальным государством, что предполагает направленность политики «на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»5. При этом специалисты отмечают отсутствие «устойчивого вектора движения к социальному государству» [6, с. 24] и двойственную направленность российской социальной политики (с одной стороны – неолиберализм, с другой – интервенционизм и патернализм) [7, с. 2]. В стране сохраняется множество острых общественных проблем [8] (вопросы сокращения бедности, качества и доступности образования и здравоохранения, трудоустройства социально уязвимых категорий граждан и т. д.). В то же время социальное государство должно стимулировать как государственный, так и частный и некоммерческий секторы к участию в решении разного рода общественных задач [9], так как бюд- жетные возможности существенно ограничены. С учетом потенциала социальных инноваций в устранении/нивелировании обозначенных проблем и сравнительно недавнего обращения управленческого и академического сообщества к данной тематике в России изучение вопросов межсекторального взаимодействия в рамках поддержки социальных нововведений в подобных условиях представляется весьма значимым направлением науки и практики.
Сущностные основы социальных инноваций
Активное развитие теории и практики в области социальных инноваций происходит в течение последних тридцати лет, однако их эволюция имеет давнюю историю. Социальные нововведения, призванные улучшить жизнь людей, предпринимались в разные эпохи. Однако возникновение самого понятия относится к началу XVIII века [1, с. 14]. С тех пор социальные инновации рассматривались под различным углом в зависимости от существующего политического, социального и экономического контекста или научного направления. К примеру, в первой половине XX века они интерпретировались как социальные изобретения, «не относящиеся к механическим и не являющиеся открытиями в естественных науках» [10, с. 859–860]. В контексте построения государства всеобщего благосостояния и в соответствии с периодами расцвета движений эмансипации, общинного развития территорий, социальной и солидарной экономики под социальными инновациями подразумевались новые модели участия, управления и самоуправления [1, с. 16].
В современном мире социальные инновации выступают в качестве отдельного направления государственной политики многих стран и предмета исследований в рамках различных научных подходов (например, устойчивого [11] или инклюзивного развития [12]) и попыток теоретического осмысления данного феномена. Кроме ожиданий, связанных с преодолением социальных вызовов, интерес к социальным инновациям обусловлен фундаментальным сдвигом в инновационной парадигме, проявляющемся в открытости инновационного процесса, его ориентации на общественные проблемы и более глубоком признании значимости нетехнологических инноваций [13, с. 15–19].
В связи с многоаспектностью социальных инноваций можно встретить различные определения термина: от широких трактовок («изменения в культурных, нормативных или регулирующих структурах общества, которые усиливают его коллективные ресурсы и улучшают экономические и социальные показатели» [14, с. 74]) до более конкретных («новые решения (продукты, услуги, модели, рынки, процессы и т. д.), которые одновременно отвечают социальным потребностям (более эффективно, чем существующие решения) и ведут к новым или улучшенным возможностям и социальным отношениям и/или более эффективному использованию активов и ресурсов» 6). В результате исследователи не только предпринимают попытки систематизировать существующие трактовки [15], но и представляют социальные инновации как «квази-концепцию» [16]. При этом отмечается, что с позиции теории она все еще остается недостаточно развитой, а понимание сущности и перспектив социальных инноваций весьма ограничено и осуществляется, в первую очередь, исходя из практики и основанных на ней размышлений [17].
Вопросы, связанные с социальными нововведениями, под которыми подразумевались качественно новые образования, структуры, механизмы общественного производства, общества в целом либо их подсистемы, были отражены в работах ученых советского периода, [18, с. 9]. Как типичные примеры подобного рода проектов того времени рассматривались социалистическое соревнование, добровольные народные дружины, общественные объединения инвалидов и т. д. Активное обращение к тематике социальных инноваций в России на современном этапе связано с нерешенностью многих системных вызовов, а также изменениями сложившихся взаимоотношений между государством и обществом в контексте обеспечения реализации социальных прав. Кризис 2008 года усугубил имеющиеся проблемы, что повлекло за собой рост интереса к данному феномену в науке и практике [19, с. 15–16].
При существующей в академической литературе вариативности подходов общей их чертой является признание коллаборативного характера социальных инноваций, подразумевающего взаимодействие различных акторов для достижения наибольшего эффекта в преодолении острых общественных проблем. Поскольку многие глобальные вызовы имеют комплексный характер и социальную природу [12, с. 13], поиск эффективных решений зачастую находится на пересечении деятельности нескольких субъектов, что определяет необходимость и даже неизбежность нахождения взаимных интересов.
Социальные инновации возникают в разных секторах (государственном, частном, некоммерческом и т. д.) и могут принимать всевозможные формы и масштабы: от инновационных проектов на микроуровне до системных преобразований в социально-экономическом устройстве государств; от различных продуктов и услуг до бизнес-моделей, платформ, рынков и т. д. Спектр воздействия таких инициатив также достаточно широк: от новых моделей ухода за детьми, пожилыми и людьми с ограниченными возможностями до решения вопросов устойчивого потребления, доступности образования, экологических проблем, энергосбережения и т. д. Одним из самых распространенных способов реализации социальных инноваций выступает социальное предпринимательство, направленное на удовлетворение общественных потребностей за счет совмещения социальных и экономических целей, где приоритет отводится именно первым. Как правило, такая деятельность возникает в некоммерческом, частном и государственном секторах экономики или на их стыке [20, с. 371].
Развитие социальных инноваций в различных регионах мира происходит неодинаково, что во многом обусловлено особенностями той среды, в которых они возникают [21, с. 172– 173]. Региональный контекст оказывает существенное воздействие на то, в каких сферах развиваются социальные инновации, как они интерпретируются отдельными акторами, как строится межсекторальное взаимодействие в процессе решения социальных проблем.
Материалы и методы
В рамках статьи анализ развития социальных инноваций в современной России осу- ществлялся в контексте акторного подхода, что обусловлено не только важностью межсекторального сотрудничества для раскрытия их потенциала, но и различиями в восприятии нового феномена (от инструмента преодоления острых социальных проблем до модного тренда с сомнительной значимостью для общества) [22]. Применительно к условиям российской действительности ключевыми акторами являются государство, крупный бизнес и гражданское общество, они определяют вектор развития социальных инноваций в стране. При этом инициаторами подобного рода проектов могут выступать различные субъекты7. В представленной статье мы сделали акцент на «низовых» практиках гражданского общества как одного из основных источников социальных инноваций [23].
Информационную базу работы составили отечественные и зарубежные научные труды по изучаемой проблематике, нормативно-правовые документы, публичные отчеты и доклады профильных организаций (Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», Центр содействия инновациям в обществе «СОЛь» и т. д.). Для достижения поставленной цели использовались преимущественно общенаучные методы исследования (дискурс-анализ, синтез, обобщение, сравнение, индукция и т. д.). Вместе с тем важно понимать, что имеющиеся эмпирические данные о развитии социальных инноваций в России весьма ограничены. С одной стороны, относительная новизна и много-аспектность изучаемого феномена оборачиваются отсутствием официального статистического учета, в то время как имеющиеся источники зачастую основаны на технологии краудсорсинга, когда внесение проекта в каталог происходит по предложению самого обратившегося либо используются сведения об инициативах, участвовавших в различных программах и конкурсах. В результате многие локальные практики, известные лишь в узких кругах, остаются «в тени». С другой стороны, большинство наблюдений, которые в той или иной степени могут быть применены для анализа социальных инноваций, охватывает исключительно социальных предпринимателей, оставляя без внимания иных акторов (органы власти, бизнес-структуры, гражданское общество и т. д.). Все это затрудняет формирование целостной картины развития социальных инноваций в современной России, в результате чего проведенное исследование не обладает исчерпывающим характером, однако стремится отобразить существующее многообразие трактовок изучаемого явления.
Социальные инновации в контексте государственной политики РФ
В России государство играет ведущую роль в решении социальных проблем и является важным актором в развитии социальных инноваций. Универсалистская система социального обеспечения была унаследована от СССР с его патерналистской моделью государства всеобщего благосостояния. В 1990-е гг. Правительство РФ начало курс на либерализацию, предпринимая шаги в направлении делегирования функции социального обеспечения рынку и обществу в целом, индивидуализации социальных рисков и сбыта услуг, которые ранее были бесплатными [24; 25]. В 2000-х гг. тенденция, связанная с пересмотром принципов управления социальной сферой, продолжилась: приоритет постепенно сместился от государственных функций производства к регулированию и посредничеству на рынке социальных услуг. Начался активный поиск негосударственных акторов для реализации функции социального обеспечения. В 2016 году официально была сформулирована цель до 2018 года передать негосударственным поставщикам – социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) или бизнес-структурам8 – 10% предоставляемых социальных услуг для повышения их качества и доступности, а также усиления конкуренции в данной области. Государственная политика поддержки социаль- ных инноваций является отражением этих процессов, вписываясь в уже существующий тренд трансформации государства всеобщего благосостояния и нарастания присутствия негосударственных институтов в социальной сфере.
Впервые социальные инновации упоминаются в официальных федеральных документах в 2008 году (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года9). Хотя основное внимание уделяется развитию технологических нововведений, в Концепции производство социальных инноваций рассматривается как дополнительный источник экономического роста. Следующее упоминание содержится в параграфе «Инновации в общественном секторе, инфраструктурных отраслях и социальной сфере» Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года10. В Стратегии не представлено определения социальных инноваций, но в то же время ставится цель разработать инновационные решения в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальных услуг и т. д. С 2015 г. в Совете Федерации действует Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации. В настоящее время в половине российских регионов работают центры инноваций в социальной сфере (ЦИСС). Тем не менее этому термину до сих пор не было дано определение на официальном уровне. Более того, обозначенные выше документы остаются единственными федеральными нормативно-правовыми актами, в которых отмечаются социальные инновации.
Гораздо большее распространение в России получила концепция социального предпринимательства. Этот термин впервые появился в федеральных нормативных документах в 2011 году (Приказ Минэкономразвития РФ № 227 о конкурсном отборе субъектов РФ для предоставления субсидий в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП)11). Необходимо отметить, что в российском общественном дискурсе понятия «социальные инновации» и «социальное предпринимательство» зачастую выступают как синонимы. Так, деятельность вышеупомянутых организаций, содержащих «социальные инновации» в своих названиях, направлена на две категории акторов – СО НКО и социальных предпринимателей12. Именно на этих акторов делается ставка в процессе разгосударствления социальной сферы. Взаимозаменяемое использование двух терминов объясняется распространенным представлением о социальном предпринимательстве как о носителе социальных инноваций и инструменте их реализации. Социальные предприятия воспринимаются как априори имеющие элемент новизны [26, с. 145], поскольку они предлагают адаптированные и гибкие услуги по сравнению с государственными стандартизированными предложениями, направленными на усредненного потребителя. Другая точка зрения на источник инновационности социального предпринимательства заключается в том, что конкуренция с традиционным бизнесом и государственными структурами заставляет социальных предпринимателей использовать лучшие технологии для повышения производительности и качества продукции или услуг13.
На содержательное наполнение понятия «социальное предпринимательство» большое влияние оказало Минэкономразвития РФ, выступив в качестве движущей силы в определении его юридического статуса в российском правовом поле, подготовив в 2016 году законопроект в виде поправок к ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 26 июля 2019 года закон вступил в силу, официально закрепив понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» и наметив виды государственной поддержки14. Закон разрабатывался в рамках реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до конца 2030 года и дорожной карты по поддержке доступа некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг15. Это иллюстрирует двойственную направленность государственной поддержки в области социального предпринимательства: с одной стороны – малый и средний бизнес, с другой – социально ориентированный некоммерческий сектор. Однако законодательное определение ориентировано, в первую очередь, на МСП, предлагая узкую трактовку социального предпринимательства и вынося за рамки официального статуса некоммерческие организации. Положения закона, как и предусмотренные формы поддержки, могут применяться к НКО только в случае, если они осуществляют свою деятельность в «смешанной» форме, объединяя некоммерческую и коммерческую структуры. Таким образом, закрепляется важность устойчивой бизнес-модели как определяющего критерия социального предпринимательства.
В рассматриваемом законе также обозначаются сферы деятельности социального предпринимательства, возможности распределения прибыли, состав сотрудников и т. д. Четко прописанные рамки ведения деятельности ограничивают предпринимательскую свободу, способствующую развитию инновационных подходов. Кроме того, в тексте закона не упоминается инновационность как необходимый критерий социального предпринимательства. Это может быть связано с превалированием технологи- ческого понимания инноваций и отсутствием дискуссии о содержании концепции социальных инноваций в российском общественном дискурсе [27, с. 37]. В то же время закон позволяет расширять спектр направлений социального предпринимательства в зависимости от условий на местах. Такой подход дает органам власти возможность на уровне регионов и муниципалитетов регулировать направления деятельности социальных предпринимателей и точечно решать наиболее остро стоящие задачи. Таким образом, четко формулируя заказ на конкретные услуги и диктуя способы ведения деятельности, государство направляет усилия социальных предпринимателей на достижение конкретных результатов в социальной сфере, а не на изменение подходов к решению общественных проблем и преодоление причин их возникновения.
Социальные инновации в контексте корпоративной социальной ответственности крупного бизнеса
Появление в широком дискурсе термина «социальные инновации», а точнее понятия социального предпринимательства как одного из основных их проводников, связывается с деятельностью фонда региональных социальных программ «Наше будущее», основанного в 2007 году по инициативе президента ПАО «Лукойл» В.Ю. Алекперова. Стоит отметить, что фонд в значительной степени повлиял на формирование определения социального предпринимательства [28] как самоокупаемого и устойчивого «бизнеса, нацеленного на смягчение или решение социальных проблем»16. Такое видение в целом совпадает с трактовкой в российском законодательстве. В то же время фонд не накладывает ограничений на возможные сферы деятельности социальных предпринимателей. При поддержке конкретных инициатив фонд руководствуется дополнительными критериями социального воздействия, тиражируемости и инновационности17. При этом инновационность проектов трактуется весьма широко как
«определенная степень новизны в подходе к решению социальных проблем» или инновационная составляющая, подтвержденная патентом. Социальное воздействие является для фонда количественным показателем: социально-предпринимательская деятельность должна охватывать не менее 1000 человек в год. Таким образом, поддержку в основном получают претенденты, предлагающие инновационные решения конкретных социальных задач, воздействие которых количественно измеряется. Направленность большого числа российских социальных предпринимателей на преодоление насущных проблем подтверждается и результатами исследования группы Циркон. Согласно этим данным, 54% социальных предпринимателей, участвовавших в опросе, запускали производство товаров или услуг, которых не хватало лично им или их семьям [27, с. 9].
Подавать заявки на получение беспроцентных займов – основного инструмента поддержки социального предпринимательства фонда «Наше будущее» – могут как НКО, так и предприниматели, однако, исходя из описания поддержанных проектов, в основном этой возможностью пользуется бизнес. Решение поддерживать социальное предпринимательство, а не инвестировать в благотворительные проекты, является результатом дискуссии об эффективности корпоративной социальной ответственности (КСО) компании. С точки зрения бизнеса, эффективность инвестиций в социальное предпринимательство выше, поскольку, получив поддержку, инициативы становятся финансово независимыми и освободившиеся ресурсы могут быть инвестированы в другие проекты, в то время как благотворительные организации требуют постоянных финансовых вложений, что может привести к зависимости организации от спонсоров18.
Помимо ПАО «Лукойл» многие российские крупные компании (ПАО «ГМК „Норильский никель”», АО «ОМК», ОК «РУСАЛ», АО «СУЭК», АО «Атомредметзолото», ПАО «Сибур Холдинг» и др.) также внедрили работу с со- циальным предпринимательством в свои концепции КСО. В данном направлении крупный бизнес сотрудничает с органами власти различного уровня. Например, эксперты фонда «Наше будущее» активно участвовали в разработке дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», а позднее – и законопроекта о социальном предпринимательстве. С 2014 года фонд входит в состав Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации. ОК «Русал» и ПАО «Северсталь» являются соучредителями региональных ЦИСС. Здесь, безусловно, следует отметить, что КСО крупного российского бизнеса рассматривается многими аналитиками как ответ на запрос, сформулированный государством. Это объясняет высокую схожесть подходов этих акторов к рассматриваемому явлению.
Кроме финансовой поддержки конкретных инициатив в форме беспроцентных займов, грантов и участия в капитале бизнес содействует популяризации и распространению успешных практик социального предпринимательства, организуя обучающие мероприятия, инкубационные программы, конференции. Однако поддержка социального предпринимательства крупным бизнесом (за исключением фонда «Наше будущее», работающего в 57 субъектах страны) в основном ограничивается регионами присутствия компаний.
Социальные инновации в рамках гражданского общества
Российское гражданское общество выступает одним из ключевых акторов, инициирующих социальные инновации. Несмотря на его относительную слабость и неразвитость [29; 30], в этой среде присутствуют различные представления о социальных инновациях и социальном предпринимательстве, проявляющиеся в деятельности данных структур. В контексте социального обеспечения многие СО НКО и социальные предприниматели работают в рамках направлений, определенных государственной политикой. Они выступают как исполнители госзаказа по решению конкретных остро стоящих социальных вопросов и транслируют понимание социального предпринимательства, близкое к принятому на государственном уровне. Однако и в этом контексте есть организации, к примеру, представляющие системный подход к вопросам социальной защиты и чаще всего не соответствующие законодательно принятому определению социального предпринимательства. К ним можно отнести благотворительный фонд помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость», проект «Мама работает» благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь», фонд помощи хосписам «Вера» и т. д.
Становлению социальных инноваций в сферах, не относящихся к государственным приоритетам в рамках развития социального предпринимательства, способствует существующая инфраструктура поддержки. Кроме уже описанной выше помощи крупных бизнес-структур и органов власти в России существуют альтернативные источники финансовой и нефинансовой поддержки. К ним относятся образовательные и инкубационные программы общей и узкой направленности (школы социального предпринимательства для НКО19, для предпринимателей среднего и старшего возраста20, школы экологического предпринимательства21 и т. д.), конкурсы и премии (Social Impact Award для молодых социальных инноваторов, «Конкурс лидеров социальных инноваций» и др.), привлечение экспертов из бизнес-сообщества на основе pro bono-волонтерства и т. д.
Важную роль в развитии социальных инноваций играют некоммерческие организации, выполняющие функции медиаторов, расставляя свои акценты в трактовке рассматриваемого феномена. Например, Impact Hub Moscow22 разделяет видение социального предпринимательства, принятое международным сообществом Global Community of Impact Hubs, частью которого является. Согласно ему, социальное предпринимательство выступает способом решения социальных проблем, основанным на финансово устойчивой бизнес-модели субъектов инновационной деятельности. В то же время Impact Hub добавляет к данному определению некоторые отличительные особенности, уделяя особое внимание инновационности предпринимательской деятельности и достижению глобальных целей устойчивого развития. Другая организация-медиатор – Центр содействия инновациям в обществе «СОЛь» – создана с целью поддержки инновационного социального предпринимательства и более гибко подходит к источникам его финансовой стабильности. Самым надежным из них считается выручка от предпринимательской деятельности, однако в долгосрочной перспективе способность находить и комбинировать различные ресурсы имеет куда большее значение. При этом определяющими признаками социального предпринимательства становятся инновационность проекта, масштаб его социального воздействия, системность решений и устойчивое развитие. Согласно отчету центра «СОЛь» в рамках проекта «Карта лидеров социальных изменений», большинство социальных инноваторов в России нацелено на преодоление последствий социальных проблем, а не на системное изменение подходов к их решению. В связи с этим деятельность организаций-медиаторов, поддерживающих системный подход, важна для будущего развития социальных инноваций.
В последние несколько лет социальные инновации получили распространение и в менее формализованной среде низового гражданского активизма. Здесь они зачастую раскрываются в отрасли гражданских технологий, которые ставят целью преодоление информационной асимметрии и вовлечение населения в общественную жизнь. В России с 2010 года возник целый ряд инновационных проектов, основанных на IT-технологиях. С их помощью граждане, например, могут привлекать волонтеров при преодолении последствий стихийных бедствий23 и для поиска пропавших людей24, узнать о загрязнении воздуха25, налоговых деклараци- ях чиновников26, государственных закупках27, более прозрачно и эффективно общаться с властями и общественными институтами28, решать проблемы благоустройства29 и т. д. Все эти инициативы созданы гражданскими активистами или объединениями граждан на волонтерской основе. Эффективное решение поставленных задач в данном случае зачастую не подразумевает наличие бизнес-модели, коммерциализацию деятельности или получение прибыли. Хотя многие из проектов нацелены на решение конкретной проблемы, вовлечение населения, лежащее в основе их технологий, имеет и дополнительный эффект: они помогают внести прозрачность в отношения между людьми и общественными институтами, усиливают голос граждан в принятии общественных решений. В этой сфере также существует организация-медиатор – Теплица социальных технологий, поддерживающая создание гражданских он-лайн-приложений и агрегирующая информацию о существующих проектах, поэтому она играет важную роль в транслировании своего видения социальных инноваций, основанных на гражданских технологиях и имеющих системный характер30.
Таким образом, выполненный анализ показал сосуществование различных трактовок социальных инноваций органами государственной власти, бизнес-структурами и гражданским обществом. Социальные инновации могут рассматриваться как инструмент преодоления локальных социальных проблем, институциональное решение системных вызовов, финансово-устойчивый социальный бизнес, проекты на основе волонтерства; как обладающие «определенной степенью новизны», так и уникальные способы решения проблем, в т. ч. с применением информационных технологий. Выбор конкретной интерпретации связан с целями и контекстом деятельности того или иного актора.
Предпосылки для межсекторного сотрудничества в ракурсе развития социальных инноваций в России
Раскрыть потенциал социальных инноваций невозможно без формирования тесных связей между их акторами. Не случайно в академической литературе все большую популярность приобретает концепция экосистем, акцентирующая внимание не только на рамочных условиях для развития социальных инноваций, но и на важности межсекторального взаимодействия [2]. Предпосылки такого сотрудничества во многом определяются параметрами внешней среды, а также различиями в понимании социальных инноваций и стоящих за ними интересами акторов.
Анализируя отношения между государством и гражданским обществом в современной России, прежде всего стоит отметить, что они характеризуются контролем и селективным подходом органов власти к некоммерческим структурам, что закреплено, например, ограничениями для привлечения международного капитала и четким разделением на социально ориентированные и прочие НКО [31; 32]. В последние годы правительство приложило немало усилий, чтобы привлечь «конструктивное» гражданское общество к процессу принятия и реализации политических решений [33]. Однако взаимодействие между этими двумя акторами имеет асимметричный характер, сформированный четкой иерархией, и явно работает в пользу органов власти [34]. Государство сотрудничает с гражданским обществом, определяя партнеров, сферы и границы кооперации [33].
В рамках государственной политики по развитию социального предпринимательства взаимодействие также выстроено в манере «сверху-вниз» или «заказчик – исполнитель услуг». Основная поддержка направлена тем, кто помогает решить безотлагательные задачи в сфере социального обслуживания (например, нехватка или отсутствие детских садов, больниц, реабилитационных учреждений, домов для престарелых и т. д.), определяемые органами власти. Такое целеполагание объясняет и ставку на бизнес, который быстрее реагирует на изменение спроса и обладает необходимыми компетенциями для ведения финансово устойчивой деятельности, в то время как создание СО НКО, даже несмотря на рост профессионализации некоммерческого сектора, является более длительным процессом, в том числе за счет объединения и самоорганизации граждан вокруг определенной проблемы при отсутствии финансовой заинтересованности, наращивания членской базы и привлечения волонтеров.
Часть российских СО НКО, прежде всего те, которые привыкли полагаться на прямое государственное финансирование и другие формы поддержки в рамках советской модели социального обеспечения (профсоюзы, организации ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и т. д., а также представляющие интересы больших групп населения), пытаются противостоять разгосударствлению социальной сферы и сохранить прямую поддержку и льготные условия для получателей своих услуг [35]. В свою очередь региональная и местная администрация стараются снизить социальную неудовлетворенность и продолжают прямое субсидирование определенных категорий граждан, воспроизводя механизмы перераспределения, характерные для патерналистской модели социального обеспечения, закрепляя неравное положение НКО [35, с. 298] и уменьшая стимулы к инновациям [36, с. 69].
В сферах, напрямую не относящихся к приоритетам государственной поддержки социального предпринимательства, организации гражданского общества, в основном, также решают конкретные насущные задачи. Для достижения этих целей тесное сотрудничество с государством не всегда необходимо. В качестве источника поддержки социальные инноваторы могут опереться на развитую инфраструктуру, включающую предложения крупного бизнеса, фондов или благополучателей. Исследователи отмечают улучшение возможностей НКО для мобилизации финансовых ресурсов за счет краудфандинга или донорских взносов [37]. В то же время, согласно исследованию группы ЦИРКОН, 43% респондентов в 2018 году ничего не слышали о государственных мерах поддержки социального предпринимательства, что может свидетельствовать о неэффективности, недоступности или невостребованности последних [27, с. 24]. Кроме того, некоторые социальные предприниматели намеренно избегают взаимодействия с государством, поскольку не доверяют правительственным структурам или опасаются завышенных требований и бюрократических процедур, связанных с этими взаимоотношениями.
Что касается социальных инноваций в контексте гражданского активизма, то в этом случае взаимодействие часто становится неизбежным. Например, уже упомянутые онлайн-приложения для улучшения городской инфраструктуры не устраняют проблему самостоятельно, а лишь указывают на ее наличие. Привлекая большое количество пользователей и внимание общественности, подобные инициативы создают ситуацию, когда органы власти, чаще всего на муниципальном уровне, должны реагировать на существующие вызовы. Итоги полевых исследований, проведенных авторами, показывают, что в случае с гражданскими технологиями формы взаимодействия с государственными структурами варьируются от сотрудничества до конфликта31. Однако нужно отметить, что во всех рассмотренных примерах практики взаимодействия государственных структур и гражданского общества могут существенно различаться на региональном и местном уровнях, что подчеркивает актуальность локализации исследовательского фокуса.
Крупный российский бизнес, как правило, имеет близкие к государству позиции, в т. ч. по отношению к развитию социального предпринимательства. Эти акторы сотрудничают в рамках формирования инфраструктуры его поддержки, к примеру, при создании региональных центров инноваций социальной сферы. Взаимодействие бизнеса с гражданским обществом, в основном, ограничивается финансированием отдельных проектов в рамках корпоративной социальной ответственности компаний в местах их присутствия. Зачастую речь идет о моногородах, где крупные промышленные компа- нии являются единственным работодателем и вынуждены принимать на себя ответственность за благосостояние и социальную стабильность в этих населенных пунктах. Заинтересованность бизнеса в диверсификации занятости в моногородах, расширении спектра социальных услуг и решении острых социальных проблем создают предпосылки для сотрудничества с местным гражданским обществом. Однако слабость последнего препятствует взаимодействию с бизнесом «на равных» и выработке решений для преодоления социальных вызовов. В то же время имеются отдельные случаи более тесного сотрудничества бизнеса и гражданского общества в рамках совместных программ по развитию социального предпринимательства, например совместная программа Impact Hub Moscow и Росбанка «Начни Иначе» для инклюзивных социально-предпринимательских проектов.
Таким образом, межсекторальное сотрудничество в области социальных инноваций во многом отражает характеристики среды, в которой они реализуются. Уточнение современных тенденций во взаимоотношениях между основными акторами и выявление особенностей, связанных с различиями в восприятии изучаемого феномена, позволяют констатировать наличие ряда ограничений, препятствующих развитию подобного рода практик в России. В ракурсе нашего исследования речь идет прежде всего об отсутствии реальных предпосылок для активного сотрудничества, что связано с интерпретацией социальных инноваций большинством субъектов в качестве инструмента преодоления последствий социальных проблем. В результате каждый стейкхолдер решает эту задачу с позиции собственных интересов (повышение эффективности государственного управления, реализация принципов корпоративной социальной ответственности, удовлетворение локального спроса на социальные услуги и т. д.) без налаживания тесных связей друг с другом. Социологические данные по отдельным регионам также демонстрируют неразвитость партнерского сотрудничества между акторами [22], вследствие чего сложно выработать системные подходы к преодолению многих социальных вызовов. В качестве перспектив, определяющих будущее концепции социальных инноваций в России, можно отметить сохранение многогранного представления об их роли в общественном развитии, воплощаемого в различных, часто не пересекающихся, контекстах при низовом уровне межсекторного сотрудничества.
Вклад проведенного исследования в развитие теоретической науки заключается в накоплении эмпирического материала о развитии социальных инноваций в конкретных услови- ях внешней среды, что вносит определенную ясность в понимание сущности изучаемого феномена с позиции отдельных акторов и их взаимоотношений. Полученные выводы могут быть использованы в деятельности органов власти при разработке конкретных управленческих решений, направленных на формирование благоприятной среды для раскрытия потенциала межсекторального сотрудничества.
Список литературы Развитие социальных инноваций в России сквозь призму деятельности и взаимодействия органов власти, бизнес-структур и гражданского общества
- Moulaert F., Mehmood A., MacCallum D., Leubolt B. (eds.) Social Innovation as a Triggerfor Transformations — The Role of Research. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 108 p.
- Domanski D., Howaldt J., Kaletka C. A comprehensive concept of social innovation and its implications for the local context — on the growing importance of social innovation ecosystems and infrastructures. European Planning Studies, 2020, vol. 28 (3), pp. 454-474. DOI: 10.1080/09654313.2019.1639397
- Baglioni S., Sinclair S. Social Innovation and Social Policy: Theory, Policy and Practice. Bristol: Policy Press, 2018. 136 p.
- Pel B., Bauler T. The Institutionalization of Social Innovation between Transformation and Capture. TRANSIT. Available at: http://www.transitsocialinnovation.eu/content/original/Book%20covers/Local%20PDFs/179%20 TRANSIT_WorkingPaper2_Governance_Pel141015.pdf
- Fougère M., Merilainen E. Exposing Three Dark Sides of Social Innovation Through Critical Perspectives on Resilience. Industry and Innovation, 2019. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/136627 16.2019.1709420. DOI: 10.1080/13662716.2019.1709420
- Ильин В.А., Морев М.В. «Российская Федерация — социальное государство»? Оценка 25-летних итогов реализации статьи 7 Конституции РФ // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 6. С. 9—25. DOI: 10.15838/esc.2018.6.60.1
- Тарасенко А.В. Диверсификация сферы социальных услуг в России: факторы региональных различий. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. 28 с.
- Соболева И.В., Чубарова Т.В. Социальная политика в России — контуры новой модели. М.: Институт экономики РАН, 2017. 45 с.
- Охотский Е.В., Богучарская В.А. Социальное государство и социальная политика современной России: ориентация на результат // Труд и социальные отношения. 2012. № 5 (95). С. 30—44.
- Ogburn W.F., Nimkoff M.F. Sociology. Boston: Houghton Mifflin Co, 1940. 953 р.
- Millard J. How social innovation underpins sustainable development. In: J. Howaldt, C. Kaletka, A. Schroder (eds.). Atlas of Social Innovation. Dortmund: Sozialforschungsstelle, 2018. Pр. 40—43.
- Богдан Н.И. Социализация инновационной политики: мировые тренды и вызовы для Беларуси // Белорусский экономический журнал. 2015. № 3. С. 4—22.
- Howaldt J., Schwarz M. Social Innovation: Concepts, Research Fields and International Trends. Dortmund: TU-Dortmund, 2010. 83 р.
- Heiskala R. Social innovations: Structural and power perspectives. In: T.J. Hamalainen, R. Heiskala (eds.). Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. Pp. 52—79.
- Ruede D., Lurtz K. Mapping the Various Meanings of Social Innovation: Towards a Differentiated Understanding of an Emerging Concept. Oestrich-Winkel: EBS Business School, 2012. 51 p.
- Jenson J. Social innovation: redesigning the welfare diamond. In: A. Nicholls, J. Simon, M. Gabriel, C. Whelan (eds.). New Frontiers in Social Innovation Research. Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2015. Pp. 89—106.
- Mulgan G. Social innovation theories: Can theory catch up with practice? In: H.-W. Franz, J. Hochgerner, J. Howaldt (eds.). Challenge Social Innovation. Berlin: Springer-Verlag, 2012. Pp. 19—42.
- Нововведения в организациях (общая часть исследовательской программы) / Н.И. Лапин, А.И. Пригожин, Б.В. Сазонов, В.С. Толстой // Структура инновационного процесса. М., 1981. С. 5-21.
- Popov A.V., Solov'eva T.S. Social innovation in Russian scientific discourse. European Public & Social Innovation Review, 2018, vol. 3 (2), pp. 14-22. DOI: https://doi.org/10.31637/epsir.18-2.2
- Austin J., Stevenson H., Wei-Skillern J. Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? Entrepreneurship Theory and Practice, 2006, vol. 30(1), pp. 1-22. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x
- Попов А.В., Соловьева Т.С. Потенциал развития социальных инноваций в России и странах ЕС // Современная Европа. 2020. № 1. С. 170-181. DOI 10.15211/soveurope12020170181
- Соловьева Т.С., Попов А.В. Оценка межсекторального взаимодействия по вопросам развития социальных инноваций на региональном уровне // Социальное пространство. 2019. № 4 (21). URL: http://socialarea-journal.ru/article/28314. DOI: 10.15838/sa.2019.4.21.2
- Краснопольская И.И., Мерсиянова И.В. Гражданское общество как среда производства и распространения социальных инноваций // Форсайт. 2014. Т. 8. № 4. С. 40-53.
- Cook L. Postcommunist Welfare States: Reform Politics in Russia and Eastern Europe. London: Cornell University Press, 2007. 288 p.
- Данилова Е.Н. Трансформации социальной политики и дискурса социальной справедливости в России // Мир России. 2018. Т. 27. № 2. С. 36-61. DOI: 10.17323/1811-038X-2018-27-2-36-61
- Нещадин А.А., Кашин В.К., Тульчинский Г.Л. К вопросу о формах социального предпринимательства // Общество и экономика. 2014. № 9. С. 143-161.
- Социальный предприниматель-2018. Автопортрет: краткий аналитический отчет по результатам исследования. М.: ЦИРКОН, 2018. 37 с.
- Nefedova A.I. Social entrepreneurship in Russia: key players and development potentiality. WP BRP, 2015, vol. 51/STI/2015, 27 р. DOI: 10.13140/RG.2.2.32653.44009
- Evans A.B., Henry L.A., Sundstrom L.M. (eds.) Russian Civil Society: A Critical Assessment. New York: Routledge. 2005. 348 p.
- Гражданское общество в модернизирующейся России: аналитический доклад Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по итогам реализации проекта «Индекс гражданского общества -CIVICUS» / Л.И. Якобсон, И.В. Мерсиянова, О.Н. Кононыхина и др. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 60 с.
- Chebankova E. The Evolution of Russia's civil society under Vladimir Putin: a cause for concern or ground for optimism? Perspectives of European Politics and Society, 2009, vol. 10 (3), pp. 394-415. DOI: 10.1080/15705850903105819
- Рождественская Н.В., Богуславская С.Б., Боброва О.С. Оценка эффективности проектов некоммерческих организаций, социального предпринимательства и гражданских инициатив. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2016. 168 с.
- Aasland A., Mikkel B.-N., Bogdanova E. Encouraged but controlled: Governance networks in Russian regions. East European Politics, 2016, vol. 32 (2), рр. 148-169. DOI: 10.1080/21599165.2016.1167042
- Kropp S. Preface. In: S. Kropp, A. Aasland, B.-N. Mikkel, H.-H. Jern, J. Schuhmann (eds.). Governance in Russian Regions. A Policy Comparison. Cham: Palgrave Macmillan, 2017. рр. 73-104. DOI: 10.1007/978-3-31961702-2
- Tarasenko A. Russian welfare reform and social NGOs: strategies for claim-making and service provision in the case of Saint Petersburg. East European Politics, 2015, vol. 31 (3), рр. 294-313. DOI: 10.1080/ 21599165.2015.1023895
- Tullock G. Rent Seeking. Cambridge: Edward Elgar Publishing Limited, Cambridge University Press, 1993. 98 p.
- Sobolev A., Zakharov A. Civic and Political Activism in Russia. In: D. Treisman (ed.). The New Autocracy: Information, Politics, and Policy in Putin's Russia. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2018, pp. 249-276.