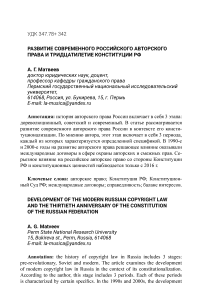Развитие современного российского авторского права и тридцатилетие Конституции РФ
Автор: Матвеев А.Г.
Журнал: Пермский юридический альманах @almanack-psu
Рубрика: Теория и история государства и права
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
История авторского права России включает в себя 3 этапа: дореволюционный, советский и современный. В статье рассматривается развитие современного авторского права России в контексте его конституционализации. По мнению автора, этот этап включает в себя 3 периода, каждый из которых характеризуется определенной спецификой. В 1990-е и 2000-е годы на развитие авторского права решающее влияние оказывали международные договоры в сфере охраны авторских и смежных прав. Серьезное влияние на российское авторское право со стороны Конституции РФ и конституционных ценностей наблюдается только с 2016 г.
Авторское право, конституция рф, конституционный суд рф, международные договоры, справедливость, баланс интересов
Короткий адрес: https://sciup.org/147244690
IDR: 147244690 | УДК: 347.78+
Текст научной статьи Развитие современного российского авторского права и тридцатилетие Конституции РФ
В целом развитие авторского права России делится на три крупных этапа – дореволюционный, советский и современный. На своем пути российское авторское право пережило несколько радикальных трансформаций, что позволяет говорить о более слабо выраженной преемственности в его развитии, по сравнению с эволюцией авторского права Германии, Франции, Великобритании или США.
Оглядываясь назад на тридцать лет, можно утверждать, что современный этап истории авторского права России начался при очередном пересмотре гражданского законодательства СССР и принятии Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г1. Основы в части регламентации ими авторско-правовых отношений (раздел V «Авторское право») действовали на территории Российской Федерации с 3 августа 1992 г. до 3 августа 1993 г.
Эти же последние тридцать лет истории России – это время действия Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., в которой впервые в истории российского права были заложены конституционные основы охраны авторских и других интеллектуальных прав. Во-первых, в ч. 1 ст. 44 Конституции закреплены два фундаментальных начала конституционализации интеллектуальной собственности. Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что они составляют основу политики государства в области охраны интеллектуальной собственности2. Согласно первому из этих начал, «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания». Согласно второму – «интеллектуальная собственность охраняется законом». Значимость свободы творчества для авторского права выражается в том, что эта идея многими учеными воспринимается как один из ключевых принципов этого института1. Фиксация в Конституции принципа охраны интеллектуальной собственности представляет собой современную всемирную тенденцию, которая отражает экономическое, социальное и культурное значение охраны этого вида имущества для развития общества в информационную эпоху. Например, в ст. 17 Хартии Европейского союза об основных правах, посвященной праву собственности, закреплено, что интеллектуальная собственность находится под защитой»2. А. И. Ковлер точно отмечает, что Хартии была уготована роль преамбулы будущей Конституции ЕС и что ее принятие должно было придать гуманитарное измерение Сообществу, которое долгое время было основано преимущественно на экономических и политических интересах3.
Во-вторых, в пункте «о» ст. 71 Конституции установлено, что правовое регулирование интеллектуальной собственности относится к ведению Российской Федерации, что, несомненно, повышает значимость и единство охраны интеллектуальной собственности на всей территории России.
Современный этап охраны авторских прав в России можно разделить на три периода, каждый из которых характеризуется определенной спецификой. Первый период начался с того, что в Основах гражданского законодательства 1991 г., по сравнению с советским гражданским правом, был существенно повышен уровень охраны авторских прав:
-
1) был расширен круг авторских прав. Это произошло через закрепление унитарной модели исключительного авторского права, которое включало в себя: право авторства; право на имя; право на неприкосновенность произведения; право на опубликование произведения; право на использование произведения (право осуществлять или разрешать: его воспроизведение любыми способами – в печати, путем публичного исполнения, передачи в эфир, в видео- и звукозаписи, по кабельному телевидению, с помощью спутников, иных технических средств; перевод, переработку произведения; распространение экземпляров воспроизведенного произведения; реализацию архитектурного и дизайнерского проекта и т.п.); право на вознаграждение за разрешение использовать и использование произведения (ст. 135 Основ);
-
2) срок действия исключительного авторского права был увеличен с двадцати пяти до пятидесяти лет после смерти автора (ст. 137). Это положение соответствовало законодательству большинства развитых госу дарств того врем ени и стандартам Бернской конвенции по охране литера-
- турных и художественных произведений, участником которой Советский Союз так и не стал;
-
3) впервые в российской истории были признаны смежные права. В ст. 141 Основ под смежными правами понимались права исполнителей, создателей звуко- и видеозаписей, организаций эфирного вещания. При этом законодатель воздержался от характеристики этих прав в качестве исключительных.
В целом было бы ошибкой утверждать, что существенное повышение законодательной охраны авторских и смежных прав в начале 1990-х годов незамедлительно и позитивно отразилось на уровне реальной охраны прав авторов и исполнителей. Несколько упрощая картину, отметим, что уровень такой реальной охраны стал существенно подниматься в начале 2000-х годов, когда в Российской Федерации начался существенный экономический рост.
Целью реформы авторского права в начале 1990-х годов прежде всего было присоединение России к Бернской конвенции и к Конвенции об охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. (Римской конвенции). Как известно, по причине распада СССР Основы гражданского законодательства не нашли развития в очередном Гражданском кодексе РСФСР. Вместо этого в России авторско-правовые отношения стали регулироваться отдельными законами. Первым из таких актов стал Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г.1 Вторым и основным актом стал Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах»2. По уровню предоставляемой охраны этот Закон полностью соответствовал Бернской конвенции и Римской конвенции, участником которых Российская Федерация стала 13 марта 1995 г. и 26 мая 2003 г. соответственно.
Следует положительно охарактеризовать юридическую технику Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», который представляет собой пример российского законотворчества, ориентированного на лучшие достижения европейской авторско-правовой мысли. Так, в этом Законе была закреплена дуалистическая модель системы авторских прав, имевшая много общего с классическим французским дуализмом. Авторские права в ст. 15 и 16 Закона об авторском праве были четко разделены на имущественные и личные неимущественные. Исключительные имущественные права могли уступаться (п. 3 ст. 15) или передаваться третьим лицам (п. 1 ст. 30). Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охранялись бессрочно (п. 1 и 2 ст. 27). И. А. Близнец и К. Б. Леонтьев также положительно характеризуют этот Закон: «Принятый в 1993 г. и действовавший до вступления в силу части четвертой ГК РФ Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (далее – ЗоАП), по оценкам российских и зарубежных экспертов, в том числе экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), соответствовал на момент его принятия основным международным стандартам в данной области»1.
Второй период. В 2000-е годы российское авторское право развивалось в рамках решения задач по кодификации права интеллектуальной собственности, по присоединению России к Договору ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. и Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 г. (интернет-договоры). Также обратим внимание на то, что в те годы Россия стремилась стать членом Всемирной торговой организации. Как известно, неотъемлемой частью соглашения о создании ВТО является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), которое в некоторых моментах превзошло Бернскую конвенцию по своему значению: 1) урегулирование споров между странами относительно реализации прав интеллектуальной собственности; 2) обязательность процедур, которые гарантируют эффективное применение этих прав в национальных законодательствах.
Все обозначенные задачи были успешно решены: 18 декабря 2006 г. был принят Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая», который вступил в силу с 1 января 2008 г.; 5 февраля 2009 г. Россия стала участником двух договоров ВОИС от 20 декабря 1996 г. (интернет-договоров); 22 августа 2012 г. наше государство стало членом ВТО.
Говоря несколько слов о кодификации права интеллектуальной собственности в ч. 4 ГК РФ, следует заметить, что ее главный адепт профессор В. А. Дозорцев (1928–2003) не предлагал идти путем исчерпывающей кодификации. По его мнению, «система законодательства не может сводиться к кодификационному акту. Его естественным продолжением являются специальные развернутые акты по отдельным видам исключительных прав и способам их охраны, развивающие и детализирующие принципиальные установки, содержащиеся в кодификационном акте. Один кодификационный акт не в состоянии вместить все необходимое разнообразие норм. При этом кодификационный акт призван выразить начало стабильности законодательства, а остальные акты – создать условия для его динамики»2.
Тем не менее после смерти В. А. Дозорцева разработчики проекта ч. 4 ГК РФ решили пойти по пути исчерпывающей кодификации права интеллектуальной собственности. В результате Россия стала единственным государством в мире, где нормы права интеллектуальной собственности целиком интегрированы в Гражданский кодекс. В зарубежных странах отношения в сфере охраны интеллектуальной собственности обычно регулируются отдельными законами. В некоторых странах такие законы были консолидированы в самостоятельные кодексы интеллектуальной собственности, например, Кодекс интеллектуальной собственности Франции от 1 июля 1992 г.1, Кодекс интеллектуальной собственности Филиппин от 6 июля 1997 г.2
Против такой исчерпывающей кодификации права интеллектуальной собственности на страницах научной литературы было высказано много критических замечаний такого рода:
-
1) значительную часть законодательства об интеллектуальной собственности составляют нормы не гражданского, а административного права;
-
2) принятие ч. 4 ГК РФ концептуально противоречит международным обязательствам России, поскольку предпринятая унификация наталкивается на отсутствие такой унификации на международном уровне, где правовая охрана интеллектуальной собственности осуществляется с помощью отдельных конвенций;
-
3) принятие ч. 4 ГК РФ противоречит также мировой практике, поскольку почти во всех странах мира правовое регулирование интеллектуальной собственности осуществляется с помощью специальных законов3.
При разработке законоположений об авторских правах в ч. 4 ГК РФ российский законодатель пытался пойти следующими путями. Во-первых, нужно было остаться в русле общепринятых теорий и принципов. Во-вторых, была предпринята попытка сформулировать концепцию закона на какой-то одной теории. В-третьих, законодатель не мог не учитывать как нормы международного авторского права, так и законотворческий опыт зарубежных, прежде всего, европейских стран.
Одной из концептуальных новелл части четвертой Гражданского кодекса РФ стала категория «интеллектуальные права». Из ст. 1226 ГК РФ следует, что интеллектуальное право не является однородным субъективным правом. Напротив, термин «интеллектуальное право» обозначает родовое понятие, в которое в качестве составляющих включены исключительное право, личные н еимущественные права и иные права. Однако последние
-
1 Кодекс интеллектуальной собственности Франции от 1 июля 1992 г. URL: https:// www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/21533 .
-
2 Кодекс интеллектуальной собственности Республики Филиппины от 6 июля 1997 г. URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/18399 .
-
3 Федотов М. А. Заключение на проект части четвертой ГК РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2006. № 8. С. 4–5.
два вида прав далеко не всегда включаются в интеллектуальные права. Профессор И. А. Зенин отмечает: «Вместе с тем содержание данной категории в ГК РФ существенно изменено по сравнению с зарубежной доктриной. Если в последней речь шла об интеллектуальных правах только как о личных неимущественных правах, не являющихся интеллектуальной собственностью, то в ст. 1226 ГК РФ в состав интеллектуальных прав включено в первую очередь исключительное право, являющееся имущественным правом…»1.
Термин «интеллектуальные права» не используется в международных договорах, в которых участвует Россия, и в законодательстве зарубежных стран. Исключением является Закон Турции об авторском праве, название третьей части которого можно перевести как «Интеллектуальные права»2. Но вопреки этим обстоятельствам и при несомненном влиянии на законодателя учения профессора В. А. Дозорцева, этим термином стала обозначаться одна из основных категорий права интеллектуальной собственности России. Российский законодатель обосновал появление новой категории «интеллектуальные права» тем, что она станет обобщающим названием для прав на интеллектуальную собственность3.
Примечательно, что в работах В. А. Дозорцева нет серьезной и убедительной аргументации в пользу введения в законодательство категории «интеллектуальные права». Ученый ограничился лишь тем, что заметил, что обобщающий термин «интеллектуальные права» было бы разумно использовать. Этот термин, по его словам, нужно использовать наряду с термином «исключительные права». Термин «исключительные права», по мнению В. А. Дозорцева, нельзя признать удачным и использовать его в качестве обобщающего названия права на интеллектуальную собственность4. Необходимо заметить, что профессор критиковал термин «интеллектуальная собственность» за его юридическую некорректность, но сам предложил законодательно использовать термин «интеллектуальные права», который также является сомнительным. Дело в том, что смысл слова «интеллектуальный» ограничивает круг объектов рассматриваемых прав результатами интеллектуальной деятельности, тогда как критерий творчества не имеет правового значения при регистрации и охране прав на средства индивидуализации.
Третий период. Основными направлениями развития охраны авторско го права в 2010-е – начале 2020-х годов стали следующие:
-
1) внесение поправок в ч. 4 ГК РФ. Наиболее существенные изменения были внесены Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1. Доктринальной основой указанного Закона стала Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства2. В Концепции обозначены две основные группы вопросов, связанных с совершенствованием законодательства об интеллектуальных правах. К первой группе относятся проблемы, которые поднимались в процессе подготовки четвертой части ГК, но по тем или иным причинам их решение было отложено. Во вторую группу включаются вопросы, которые выявились в ходе применения ГК РФ. Они, как правило, связаны с недостаточной правовой определенностью отдельных положений ГК;
-
2) создание в 2013 г. специализированного суда для рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности – Суда по интеллектуальным правам;
-
3) принятие так называемых антипиратских законов, установивших положения о блокировке интернет-сайтов, нарушающих авторские и смежные права. Юридико-технически антипиратский закон представляет собой ряд поправок в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»3;
-
4) принятие Конституционным Судом РФ нескольких постановлений, в которых отдельные положения ч. 4 ГК РФ об охране и защите авторских и других интеллектуальных прав были признаны не соответствующими Конституции РФ;
-
5) повышение роли судебной практики в развитии охраны авторских и смежных прав, которое выражается в том, что Верховный Суд РФ и Суд по интеллектуальным правам в последние годы проявляют все большую степень активности в толковании соответствующих законоположений, что нередко приводит к тому, что результаты такого рода судейского активизма расходятся со см ыслом положений ч. 4 ГК РФ.
-
1 О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ.
-
2 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.).
-
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях: Федер. закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ; О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 24 нояб. 2014 г. № 364-ФЗ.
В контексте обсуждаемой темы наиболее значимым является четвертый пункт, который, как представляется, отражает истинную конституционализацию авторских и других интеллектуальных прав. Конституционный Суд РФ был учрежден в 1991 г., и в течение двадцати пяти лет он не принимал постановления, в которых законоположения об охране и защите интеллектуальных прав признавались бы неконституционными. Однако 13 декабря 2016 г. Судом было принято Постановление № 28-П, которым положения ч. 4 ГК РФ о компенсации как специальном способе защиты исключительных прав были признаны не соответствующими Конституции, поскольку они не позволяют суду при определении размера такой компенсации определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела в десять тысяч рублей за каждое нарушение. Конституционный Суд РФ отметил, что не исключаются ситуации, при которых определяемая на основании норм ч. 4 ГК РФ компенсация может оказаться чрезмерной, т.е. она многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков. Такое регулирование было признано отступлением от требований справедливости, равенства и соразмерности. Обратим внимание на рассуждения Г. А. Гаджиева, который пишет: «Постановление КС РФ о штрафной компенсации интересно также тем, что в нем затронута основная проблема «права и экономики» – каким должно быть право: оно должно в большей степени исходить из утилитаристских целей эффективности или же по-прежнему в нем должна главенствовать идея справедливости, т.е. деонтологические цели и ценно-сти?»1. Профессор Г. А. Гаджиев ответил на свой вопрос таким образом: «Поддержав вывод о конституционности института штрафных убытков в российском гражданском праве, КС РФ исходил из необходимости эффективной превенции нарушений прав правообладателей, и это экономико-утилитаристский подход. Однако вывод о частичной неконституционности положений ГК РФ явно обусловлен деонтологическими соображениями, прежде всего принципом правовой справедливости»2.
Таким образом, сегодня конституционализация авторского права в России проходит, главным образом, в рамках дискурса о справедливости, а не эффективности или общественной пользы. Сказанное можно подтвердить также следующим примером. В 2022 г. в Конституционный Суд с запросом проверить конституционность нормы п. 3 ст. 1263 ГК РФ о праве композитора на вознаграждение обратился Суд по интеллектуальным правам. В запросе была выбрана аргументация, построенная прежде всего в рамках философии утилитаризма и экономического анализа права и в меньшей степени в рамках рассуждений о естественных правах, равенстве и справедливости. Собственно, мотивировочная часть запроса начинается с тезисов о том, что законодательное регулирование правоотношений определенным образом, по общему правилу, имеет под собой экономический смысл и что экономический анализ оспариваемой нормы показывает, что возложение обязанности по уплате вознаграждения на одну группу участников оборота и наделение одного из авторов преимуществом перед другими авторами и участниками гражданского оборота не имеет под собой основания (п. 5.2.)1. До принятия Конституционным Судом решения по данному вопросу я высказал мнение, что «хотя при принятии решения Конституционный Суд РФ и не связан основаниями и доводами, изложенными в запросе, представляется, что перспективы признания права композитора на вознаграждение неконституционным в сложившейся ситуации не являются настолько очевидными, по сравнению с тем, если бы в запросе больший акцент был поставлен на доводах равенства и справедливости»2.
Определением от 16 мая 2023 г. Конституционный Суд РФ отклонил запрос Суда по интеллектуальным правам3. Конституционный Суд воспроизвел свою стандартную «мантру» о том, что предоставление композитору дополнительного права на вознаграждение «учитывает специфику аудиовизуального произведения как объекта интеллектуальной собственности и субъектов соответствующих правоотношений при выборе модели регулирования использования охраняемых результатов такой интеллектуальной деятельности». Тезис запроса о том, что п. 3 ст. 1263 ГК РФ содержит неопределенности и нарушает конституционные права других лиц, был отклонен ссылкой на то, что такое регулирование существует в течение длительного периода времени и что оно направлено «на обеспечение разумной стабильности законодательного регулирования посредством сохранения в нем предоставленного композиторам права на вознаграждение и тем самым на достижение баланса между правами и обязанностями участников гражданских правоотношений по поводу создания и использования аудиовизуального произведения». С точки зрения целей и задач конституционного правосудия эти два аргумента представляются не совсем состоятельными.
Во-первых, на фоне двухсотлетия российского авторского права, из которых, по крайней мере, сто лет прошло в эпоху кинематографа, тридцать лет права композитора на вознаграждение – это непродолжительный срок, который вряд ли отражает и аккумулирует какие-либо традиции. Во-вторых, сама по себе отсылка к длительности правового регулирования не должна являться подтверждением его конституционности. Иначе вообще теряется смысл проверять на соответствие Конституции законы, которые действуют в течение десятков лет. В-третьих, представляется юридически и социологически ошибочным утверждение, что сохранение права композитора на вознаграждение является одним из условий достижения баланса между правами и обязанностями в сфере создания и использования кинофильмов. Здесь Конституционный Суд, на мой взгляд, никаким образом не использовал методологию взвешивания интересов, которой он, например, успешно воспользовался при вынесении Постановления от 13 февраля 2018 № 8-П, посвященного принципам исчерпания права на товарный знак1.
Таким образом, авторское право современной России за последние тридцать лет, несомненно, сделало большой прорыв в своем развитии. В первые два десятилетия на эту эволюцию решающее влияние оказывали международные договоры в сфере охраны авторских и смежных прав. Серьезное влияние на российское авторское право со стороны Конституции РФ и конституционных ценностей мы наблюдаем, пожалуй, только с 2016 г. И здесь пока что очевидно, что Конституционный Суд РФ готов признавать не соответствующими Конституции только наиболее одиозные положения ч. 4 ГК РФ – нормы о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав как способе защиты, который вызывает массу вопросов к его справедливости и сбалансированности.
Список литературы Развитие современного российского авторского права и тридцатилетие Конституции РФ
- Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учебник. М.: Проспект, 2015. 330 с.
- Бородин С.С. Система принципов авторского права // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 1(34). С. 116-123.
- Гаджиев Г.А. Легитимация идей «Права и экономики» (новые познавательные структуры для гражданского права) // Вестник гражданского права. 2017. № 6. С. 108-173.
- Дозорцев В. А. Система законодательства об интеллектуальных правах // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М: Статут, 2005. 416 с.
- Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной собственности) как предмет гражданского оборота // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2011. № 1. 577 с.
- Ковлер А.И. Европейская интеграция: федералистский проект (историкоправовой очерк). М.: Статут, 2016. 216 с.
- Матвеев А.Г. О конституционности права композитора на вознаграждение, установленного в п. 3 ст. 1263 Гражданского кодекса РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2023. № 2.
- Моргунова Е.А. Авторское право: учеб. пособие. М., 2008. 288 с.
- Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 2001. 400 с.
- Федотов М.А. Заключение на проект части четвертой ГК РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2006. № 8.