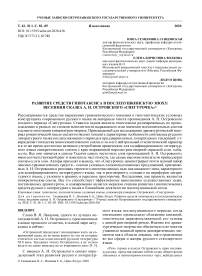Развитие средств гипотаксиса в послепушкинскую эпоху: весенняя сказка А. Н. Островского "Снегурочка"
Автор: Ганцовская Нина Семеновна, Волкова Елена Борисовна, Цинь Лидун
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Конфиренции
Статья в выпуске: 1 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются средства выражения грамматического значения в гипотактических условных конструкциях современного русского языка на материале текста произведения А. Н. Островского позднего периода «Снегурочка». Ставится задача анализа генетически разновременных по происхождению и разных по степени монолитности выражаемого ими значения подчинительных союзов в аспекте оппозиции книжное/разговорное. Привлекаемый для исследования драматургический материал романтической пьесы-сказки позволяет показать характерные особенности синтаксиса русского литературного языка послепушкинского периода в преддверии новых литературных тенденций: утверждение господства моносемантического союза если и его нейтральный стилистический характер и в то же время достаточно активное употребление архаических для кодифицированного литературного языка синкретических союзов с ярко выраженной народно-разговорной окраской коли, кабы, когда. Все они значатся в списке Тысячи самых частотных слов произведений А. Н. Островского, имея соответствующий ранг и показатель частотности, где самые высокие показатели принадлежат союзам если и коли. Авторы приходят к выводу, что «Снегурочка» демонстрирует почти полный набор лексико-грамматических средств - союзов условных сложноподчиненных предложений, применяемых А. Н. Островским в репликах героев его многочисленных пьес как книжного типа, характерного для кодифицированного литературного языка, так и разговорного, стоящего на периферии литературного языка, с уклоном в архаику и народное просторечие. Последними, как правило, являются синкретические союзы. Все это способствует эффективному выполнению художественных задач, поставленных драматургом, и одновременно является мерилом степени развития гипотактических средств русского литературного языка в ближайшие десятилетия послепушкинской эпохи.
Гипотаксис, подчинительные условные союзы, книжное/разговорное, островский, "снегурочка"
Короткий адрес: https://sciup.org/147226562
IDR: 147226562 | УДК: 81'373.21; | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.436
Текст научной статьи Развитие средств гипотаксиса в послепушкинскую эпоху: весенняя сказка А. Н. Островского "Снегурочка"
Слова В. Я. Лакшина, одного из лучших исследователей А. Н. Островского, произнесенные в конце прошлого столетия, в полной мере актуальны и сейчас:
«Островский продолжает полнокровно жить на современной сцене, но не менее важно то, что он по праву считается частью классической русской литературы XIX века. Традиция читать Островского, а не только видеть на сцене повелась не со вчерашнего дня» [4: 5].
С именем А. Н. Островского связан определенный этап развития русского литератур
ного языка послепушкинского периода, когда интенсивно происходило сближение книжной, генетически церковнославянской его основы с живой разговорной речью. Именно его драматургическое творчество обеспечило и во многом узаконило мощный приток демократических элементов как в области лексики, так и грамматики во все сферы и жанры русского стандартного языка.
« Речь героев в пьесах Островского, ярко индивидуальная, представляющая собой сплав общественно значимых и неповторимо-личных черт, нейтральных и аффективно окрашенных, вместе с тем отражает типические черты национального русского языка определенного периода, выявляет специальные черты той или иной культурной среды» [1: 496].
***
Средства гипотаксиса в области предикативных конструкций в русском литературном языке, как известно, в основных своих чертах сложились к XVII веку, но их развитие с разной степенью интенсивности в разных жанрах, стилях и культурных практиках национального языка продолжалось и в последующие эпохи, полностью не завершилось оно и к настоящему времени. Тексты драматургии А. Н. Островского, отражающие живой русский язык 40–80-х годов XIX века, в этом отношении являются живой летописью эпохи.
В. Д. Левин, соотнося признаки книжности/ разговорности (далее К/Р) в лексике и грамматике с понятиями сильная и слабая позиция в фонологии, определял роль лексики в тексте как носителя сильной позиции разговорности, а грамматики – слабой позиции [5]. Иное дело – союзы в составе гипотактических конструкций. Будучи главным показателем синтаксических отношений в конструкции и одновременно лексическим средством, союзные скрепы являются мерилом степени К/Р текста и поэтому могут отражать ту или иную позицию члена этого противопоставления в зависимости от своего типологического статуса или же ситуационных условий. Книжную, ее же можно признать для того времени нейтральной, то есть внежанровой, внестилевой – если они оформились как моносемантические союзы, в первую очередь это союзы если , ежели , разговорную – если они многозначны, как, например, союзы когда, как , пограничные между условными и временными. Союзы кабы, коли , уже сформировавшиеся в позднем средневековье как специфически условные, типичные для широкой народно-разговорной среды и в послепуш-кинский период, но чуждые рафинированной книжной речи, надо также признать маркёрами сильной позиции разговорности.
В пьесах А. Н. Островского разных периодов и разного содержания, отражающих речь относительно «образованной», «малообразованной» и «необразованной» части русской публики середины XIX века, функционируют условные подчинительные союзы с разной степенью проявления К/Р: нейтральные союзы если, ежели, характерные для книжной и разговорной речи (последний все же имеет некоторый оттенок архаичности, стоит ближе к периферии книжной речи), и союзы с яркими приметами разговорности коли/коль, кабы, когда, как. Все они значатся в списке Тысячи самых частотных слов произведений А. Н. Островского. В ранге частотности союз если занимает 56-е место и насчитывает 2278 употреблений, ранг ежели 133, ча- стотность 179. Статистика других союзов такова: когда (ранг 88, частотность 1404), коли (146, 817), кабы (400,288), коль (988,109), как (17, 7960). Союз как в этом списке сверхчастотен, но он исключительно многозначен, и сведений о его употребительности в роли условного союза, как и остальных союзов, в источнике нашей информации нет [7].
Пьеса в стихах «Снегурочка» позднего периода творчества писателя и по жанровым признакам (она определена автором как весенняя сказка), и по особенностям языка, приближенному к речи продвинутой части русской интеллигенции в преддверии серебряного века, который не совсем верно было бы характеризовать только как фольклорную стилизацию, представляет своеобразное явление в творчестве драматурга. В целом ее можно определить как романтическое произведение, имеющее многие переклички с современностью. Более детально об истоках пьесы, ее рецепции, поэтике, своеобразии в контексте драматургии А. Н. Островского, характере языка и др. см., например, в [6]. В «Летописи жизни и творчества А. Н. Островского» следующим образом описывается история создания пьесы:
«1873. 9 марта. Комиссия управления императорскими московскими театрами… в связи с ремонтом Малого театра и необходимости на сцене Большого театра размещать драматическую, оперную и балетную группы решила поставить спектакль-феерию, где были бы задействованы все три группы. С предложением написать такую пьесу в короткий срок обратились к Островскому. Он решил взять сюжет народной сказки “Девочка-снегурочка” и просил комиссию музыку заказать П. И. Чайковскому. 9 марта Островский закончил черновую редакцию 1-го действия “Снегурочки”» [3: 94].
Представляет интерес, как использовал А. Н. Островский в аспекте К/Р арсенал условных подчинительных союзов русского языка в тексте этой романтической сказки. Дадим полный список условных союзов в контексте речей персонажей пьесы «Снегурочка».
ЕСЛИ. Союз встречается в речи почти всех персонажей пьесы: Снегурочки (два раза), Царя (три раза), Брусило, Мураша, Мизгиря (два раза), Леля. Примеры показывают: союз универсален и может использоваться персонажами разных социальных групп и в разных ситуациях. Его типологический статус как нейтрального моносе-мантического союза вполне сложился:
«…союз если не имел строгой стилистической закрепленности, постепенно расширяется сфера его использования, он проникает во все жанры языка, распространение если в письменном языке поддерживается употреблением его в разговорной речи. В современном русском литературном языке если - основной союз в условных сложноподчиненных предложениях» [2: 242].
Снегурочка. А если / Не по сердцу придётся? (с. 28)1. Брусило. А если нам от новой взятки гладки, / Куда ж тогда? (с. 37). Царь. Не думай ты, что если нет убийств /И воровства...
(с. 57). Царь. Красавица, поверь, что если б громы / Средь ясного безоблачного неба / Раскатами внезапно возгремели, / Не так бы я дивился, как дивлюсь / Словам твоим бесхитростным (с. 66). Мураш. Заставь молить прощенья / У ног ее, а если не захочет, / Тогда карай грозой своей (с. 70). Мизгирь. Ни слова я не молвлю в оправданье; / Но если б ты, великий царь, увидел / Снегурочку^ (с. 71). Царь. Но если правда, как же / Не гневаться подателю тепла? (с. 75). Мизгирь. А если нет - пускай меня карает / Закон царя и страшный гнев богов! (с. 77). Снегурочка. О, если все такая / Живет любовь в народе, не хочу, / Не буду я любить (с. 88). Лель. Если / У глупого мальчонка-пастуха / Рассудка нет, так вещим сердцем сыщет /Подружку он (с. 94).
КОЛЬ. Союз характерен для речи Мороза, Снегурочки, Малуши, Малыша, Купавы. Разговорно-просторечный характер союза коль (варианта коли) и большая степень клишированности контекстов с ним очевидны. Союз характерен для устойчивых оборотов коль есть охота , коль правда, коль хочешь, коль сунешься...
«Уже в период старорусской письменности союз коли был приметой разговорной речи. В деловом жанре он встречается в грамотах, отражавших живой язык…» [2: 245].
Мороз. От скуки пой, пляши, коль есть охота, Чего еще? (с. 12). Снегурочка. Коль правда то, что девку не минует / Пора любви и слез по милом, ждите, /Придет она. Бобыль. Коль хочешь, /Играй и пой Снегурочке: но даром... (с. 32). Малуша. Найдите / Получше нас. Коль мы не хороши (с. 37). Малыш. Смотри, / Коль сунешься, не пяться (с. 42). Снегурочка. Пригожень-кий, послушай! / Коль хочешь ты, чтоб сердце не болело / У бедненькой Снегурочки, с другими / Девицами водиться перестань! (с. 85). Купава. Подружку? Нет собачку, /Гони и бей, коль ласка надоест (с. 94).
Как кажется, в этих текстах коль выступает в качестве средства исторической стилизации. Разговорный характер союза подчеркивается редукцией конечного и в союзе-частице ли , исторически второй составляющей части союза коли.
«Вопросительная частица ли в памятниках древнерусского языка выступала иногда в качестве союза в сложноподчиненных условных предложениях… Б. В. Лавров считает, что по мере того, как условное предложение все более отходило от значения вопроса, с которым оно генетически связано, вопросительной частице ли трудно было закрепиться в роли условного союза» [2: 238].
ЛИ. Однако в «Снегурочке» мы видим пример употребления ли, этого древнего союзного средства условного придаточного. В. Л. Георгиева полагает, что ли как условный союз может иметь варианты или, али [2: 238] . Однако в нижеследующем примере их вряд ли можно считать таковыми. Скорее они выступают как разделительные союзы.
Мороз. Слушай, Леший, / Чужой ли кто, иль Лель-пастух пристанет /Без отступа, аль силой взять захочет / Чего умом не может: заступись (с. 18).
КОГДА. Предложения с синкретическим союзом когда , совмещающем временное и условное значение, нередки в «Снегурочке». Они встречаются в речах Весны, Царя, Снегурочки, Купавы, Леля и носят экспрессию разговорности вследствие неточности обозначения условно-следственных отношений.
Весна. Снегурочка, когда тебе взгрустнётся, / Или нужда в чем...- ты приди / На озеро, в Ярилину долину, / Покличь меня (с. 18). Царь. Не думай ты, что всё благополучно, / Когда народ не голоден, не бродит / С котомками, не грабит по дорогам (с. 57). Бобылиха. Того гляди умрет, когда с надсады, / Допляшется (с. 79). Снегурочка. Пригоженький, когда настанет время / Снегурочке любить, уж никого-то / Опричь тебя не полюблю (с. 85). Купава. Без жалобы отстану, только взглядом / Слезящимся скажу тебе, что я, мол, / Приду опять, когда поманишь (с. 94). Лель. Время / Узнать тебе, как сердце говорит, / Когда оно любовью загорится (с. 95).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, «Снегурочка» демонстрирует почти полный набор лексико-грамматических средств – союзов условных сложноподчиненных предложений, применяемых А. Н. Островским в репликах героев его многочисленных пьес, как книжного типа, характерного для кодифицированного литературного языка, так и разговорного, стоящего на периферии литературного языка, с уклоном в архаику и народное просторечие. Последними, как правило, являются синкретические союзы. Все это способствует эффективному выполнению художественных задач, поставленных драматургом, и одновременно является мерилом степени развития гипотактических средств русского литературного языка в ближайшие десятилетия послепушкинской эпохи.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект № 18012-00809 «Диалектное исследование лексики и ономастики Костромского края».
Список литературы Развитие средств гипотаксиса в послепушкинскую эпоху: весенняя сказка А. Н. Островского "Снегурочка"
- Ганцовская Н. С. Язык драматургии Островского // А. Н. Островский. Энциклопедия / Гл. ред. и сост. И. А. Овчинина. Кострома: Костромаиздат; Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. С. 496-498.
- Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение / Под ред. акад. В. И. Борковского. М.: Наука, 1979. 464 с.
- Кайдаш- Лакшина С. Н. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского: Статьи. М.: Лазурь, 2013. 240 с.
- Лакшин В. Я. Мудрость Островского // Островский А. Н. Сочинения: В 3 т. Т. 1. Пьесы. 1850-1861. М.: Изд-во худож. лит., 1987. С. 5-30.
- Левин В. Д. Литературный язык и художественное повествование // Вопросы языка современной русской литературы. М.: Наука, 1971. С. 9-97.
- "Снегурочка" в контексте драматургии А. Н. Островского: Материалы научно-практической конференции. Кострома: Литературный музей-филиал Костр. гос. историко-арх. музея-заповедника, 2001. 152 с.
- Тысяча самых частых слов. Частотный словарь языка А. Н. Островского // А. Н. Островский. Энциклопедия / Гл. ред. и сост. И. А. Овчинина. Кострома: Костромаиздат; Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. С. 655-658.