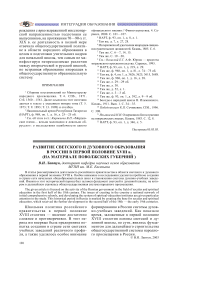Развитие светского и духовного образования в России в первой половине XVIII в. (на материале поволжских губерний)
Автор: Лаптун В.И.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: История образования
Статья в выпуске: 2 (31), 2003 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается деятельность российского правительства в области светского и духовного образования в первой половине XVIII в. Особое внимание в исследовании уделяется проблеме создания в стране сети начальных общеобразовательных школ и становлению системы духовно-учебных заведений. Именно в этот исторический период был заложен фундамент светской и духовной школы, на котором в дальнейшем строилась общегосударственная система народного просвещения.
Короткий адрес: https://sciup.org/147135715
IDR: 147135715
Текст научной статьи Развитие светского и духовного образования в России в первой половине XVIII в. (на материале поволжских губерний)
реждения с ярко выраженной миссионерской направленностью подготовки ее выпускников, на протяжении 70—90-х гг. XIX в. ее деятельность в полной мере отвечала общегосударственной политике в области народного образования в целом и подготовки учительских кадров для начальной школы, тем самым не манифестируя непреодолимые различия между инородческой и русской школой, но встраивая образование инородцев в общегосударственную образовательную систему.
ПРИМЕЧАНИЯ
-
1 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 4. СПб., 1871. Стб. 1560—1561. Далее ссылки на этот источник даются в тексте с указанием номера тома (Т. 5. 1873; Т 9. 1893; Т. 13. 1898) и столбца.
-
2 Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ), ф. 968, оп. 1, д. 16, л. 25—25 об.
-
3 См. об этом в ст.: Киржаева В.П. «Мордовское племя™ весьма малолюдно и довольно обрусело»: о последствиях ошибочности одного
официального мнения // Финно-угристика. 4. Саранск, 2000. С. 101—107.
-
4 НАРТ, ф. 93, оп. 1, д. 8, л. 1.
-
5 Там же, д. 7, л. 27, 28.
-
6 Из переписки об удостоении инородцев священнослужительских должностей. Казань, 1885. С. 6.
-
7 Там же. С. 6—7, 14, 15.
-
8 Там же. С. 19—20.
-
9 См.: Осовский Е.Г. А.Ф. Юртов — предтеча мордовского просветительства. Саранск, 1995.
-
10 НАРТ, ф. 93, оп. 1, д. 219, л. 29.
-
11 Там же, ф. 968, оп. 1, д. 81, л. 74—75 об.
-
12 Там же, ф. 4, оп. 1, д. 3626, 3625, 3615, 3688.
-
13 Там же, ф. 968, оп. 1, д. 16, л. 28.
-
14 Там же, л. 29—29 об.
-
15 Там же, л. 30.
-
16 Там же, д. 52, л. 1.
-
17 Там же, л. 3—3 об.
-
18 Там же, ф. 93, оп. 1, д. 392, л. 9—9 об.
-
19 Беседы о народной школе Н. Ильминского.
Казань, 1911. Вып. 1. С. 34—35.
-
20 Победоносцев К.П. Сочинения. СПб., 1996.
-
С. 308.
-
21 Ильминский Н.И. О церковном богослужении на инородческих языках. Казань, 1883. С. 12, 8.
-
22 НАРТ, ф. 93, оп. 1, д. 346, л. 5.
Поступила 05.03.03.
РАЗВИТИЕ СВЕТСКОГО И ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВОЛЖСКИХ ГУБЕРНИЙ )
В.И. Лаптун, докторант кафедры научных основ образования МГПИ им. М.Е. Евсевьева
В статье рассматривается деятельность российского правительства в области светского и духовного образования в первой половине XVIII в. Особое внимание в исследовании уделяется проблеме создания в стране сети начальных общеобразовательных школ и становлению системы духовно-учебных заведений. Именно в этот исторический период был заложен фундамент светской и духовной школы, на котором в дальнейшем строилась общегосударственная система народного просвещения.
The given article is focused on the activity of the Russian government in the field of secular and spiritual education in the first half of the 18th century. The issues of creating in the country a national network of initial comprehensive schools, and developing the system of spiritual-education institutes are given particular attention in the study. This historical period in Russia is marked by creating the base for secular and spiritual education, which received the further development in the second half of the 18th — the early 19th centuries.
Школьная политика российского правительства в первой половине XVIII столетия — явление достаточно сложное и противоречивое. В этот период им впервые была предпринята попытка создания в стране сети светских учебных заведений различного профиля, а также уделялось особое внимание формированию в России системы духовно-учебных заведений. Как показало время, заложенные в первой половине XVIII столетия основы светской и духовной школы, по сути, явились фундаментом для дальнейшего строительства общегосударственной системы народного просвещения в России.
Известно, что вплоть до начала XVIII в. народное образование в России находилось исключительно в руках духовенства. Но с указанного времени отношение к церковной школе стало меняться. Дело в том, что в ходе преобразований Петра I стране потребовались хорошо подготовленные профессионалы для различных отраслей промышленности и офицеры для армии и флота. Дать же их могли только специальные учебные заведения.
Поэтому уже в самом начале XVIII в., в 1701 г., в Москве были открыты две школы совершенно нового для России типа: Навигацкая (математических и на-вигацких наук) и Пушкарская (артиллерийская). Нельзя сказать, что эти школы были исключительно узкоспециальными. Так, например, Навигацкая кроме моряков также готовила инженеров, геодезистов, архитекторов, учителей, гражданских чиновников и другие кадры. Позднее был открыт еще целый ряд специальных школ, среди них: Медицинская (1707), Инженерная (1709), Горные школы при Оленецких (1719) и Уральских (1721) заводах и др. Тем самым было положено начало созданию светской школы в стране и нарушена монополия церкви в области просвещения, характерная для предшествующих столетий.
Вместе с тем следует признать, что именно духовенству принадлежит право открытия первых школ в провинциальной России в самом начале столетия. Так, в 1702 г. святитель Димитрий Ростовский открыл славяно-латинское училище в Ростове; в 1703 г. митрополит Филофей (Лещинский) учредил славяно-греческую школу в Тобольске; в 1706 г. начала функционировать знаменитая Новгородская славяно-греческая школа, основанная святителем Иовом Новгородским. Они стали первыми регулярными учебными заведениями, где обучались дети духовенства. В эти школы также допускались и представители других сословий.
В целях подготовки специалистов низшего звена в первой четверти столетия в России правительством была предпринята попытка создания сети государ ственных начальных учебных заведений для усвоения элементарных знаний — цифирных школ. Так они были названы потому, что в программе их курса приоритет отдавался обучению «цифири и некоторой части геометрии». Впервые цифирные школы появились в 1714 г. Предназначались они для общего образования «всякого чину людей опричь однодворцев», за исключением крепостных крестьян. Другими словами, эти учебные заведения были всесословными.
Учителями в цифирные школы назначались ученики навигацких школ, которых царский указ повелевал «отправить по два в каждую губернию». С этого же времени «наука цифирная» была объявлена обязательной, а юношам, не получившим от учителей свидетельства об окончании «цифирного курса», даже запрещалось давать разрешения на вступление в брак. Данные учебные заведения «было велено» открывать при архиерейских домах и знатнейших монастырях1.
Несмотря на то что цифирные школы были объявлены всесословными, «обязательность их курса», по словам известного историка церковного образования П.В. Знаменского, «пала преимущественно на детей духовенства, да еще на дьячих и подьячих детей»2. Дело в том, что практически с самого начала от обязательного обучения в них были освобождены однодворцы, а чуть позже — дворяне, так как первые составляли «народное поголовное ополчение», а последние были необходимы царю для государственной службы. Кроме того, в 1720 г. от «цифирного обучения» были освобождены и дети посадских людей, чтобы вследствие держания их в школах не было ущерба торгам и сбору таможенных пошлин»3.
Таким образом, к началу 1720-х гг. основной контингент учащихся в цифирных школах составляли дети духовенства. Согласно статистическим данным, в 1722 г. в России в цифирных школах обучалось 1 389 чел., из которых полный курс окончили только 93 чел., а «остальные едва не все, синодальной команды бежали»4. Так, например, из цифирной школы Рязани, насчитывавшей 96 учеников, в названном году «самовольно ушло» 59 чел.5
Но как бы там ни было, цифирные школы, по сути, явились первыми светскими казенными учебными заведениями в провинциальной России. Ведь все открытые ранее Петром I специальные учебные заведения, как известно, были сосредоточены в столицах и крупных промышленных центрах. Так, например, в 1718 г. цифирная школа была открыта в Нижнем Новгороде. В нее было набрано 66 учеников из посадских и солдатских детей. Обучал их «чтению, письму, цифири и некоторой части геометрии» присланный из Петербурга учитель Михаил Крелов6. Просуществовала Нижегородская цифирная школа всего четыре года и в 1722 г. была закрыта.
К концу Петровского правления цифирные школы реально существовали только в 25 провинциях империи, а число прошедших через них учеников составляло 2 012 чел., из которых на Казанскую провинцию приходилось 107, Свияжскую — 18, Симбирскую — 10, а Уфимскую — 8 чел.7 Большую часть учеников в этих школах, почти 45 %, составляли дети священников и церковнослужителей.
Как известно, в 1721 г. было упразднено патриаршество и учрежден государственный институт управления церковными делами — Святейший Синод. «Его конституция, — Духовный Регламент, — отмечает известный историк русской церкви А.В. Карташев, — теперь уже от лица верховной власти предписывала: в каждой епархии открыть архиерейскую школу „для детей священнических или и прочих, в надежду священства опреде-ленных“»8.
Тогда же была провозглашена обязательность обучения для сыновей священнослужителей и причетников, а необученные недоросли подлежали исключению из духовного сословия. Согласно Регламенту, епархиальные духовные училища должны были содержаться на средства архиерейских домов и доходов с монастырских земель. Открытие школ при архиерейских домах вменялось в прямую обязанность архиереям под угрозой наказания за поставление в священники «неученого в той школе человека». Во исполнение постановлений Регламента духовные училища семинарского типа стали открываться в разных городах России9.
Первая архиерейская школа в Поволжском крае появилась уже в год утверждения Духовного Регламента. По распоряжению нижегородского епископа Питирима при архиерейском доме была открыта школа, в которой функционировало три класса (иногда их называли «школами»): эллино-греческий, славянороссийский и букварный. Позднее архиерей открыл и славяно-латинский класс, но на первых порах он оставался верен популярному в то время в Великороссии славяно-эллинскому типу духовного образования. «Учеников было собрано очень много, — отмечает П.В. Знаменский, — в букварном классе их было 427, в славяно-российском — 110, в греческом — 48; число это тем удивительнее, что ученики учились на своем содержании за скудностью хлеба в епархии, а от архиерейского дома только давалось содержание учителям и покупались учебные пособия»10.
В 1723 г. архиерейская школа появилась и в Казани. Она была открыта митрополитом Тихоном также при архиерейском доме. Первоначально в нее было набрано 52 ученика, но к концу того же года их осталось только пять. Остальные покинули школу по разным причинам: кто-то отказался от учебы по бедности, кто-то оказался «тупым и неудобным к принятию науки», некоторые были отпущены учиться по домам, а основная часть учеников просто сбежала. В следующем году вновь был сделан набор учащихся, причем не только из русских, но и из инородцев — татар и черемисов. Первых было 36 чел., а последних — 13. После смерти в марте 1724 г. престарелого и больного митрополита Тихона Казанская школа, по сути, организовывалась и развивалась сама собой. Известно, что в ней преподавал польский шляхтич Свенциц-кий, обучавший воспитанников чтению и письму по-славянски и по-латыни, бук- варю, грамматике и четырем правилам арифметики11.
В первые годы после утверждения Духовного Регламента архиерейские школы были открыты и в других городах России: в 1722 г. — в Твери; в 1723 — в Суздале, Коломне, Вятке и Холмогорах; в 1724 г. — в Вологде и Рязани.
В какой-то мере появление этих учебных заведений сыграло негативную роль в деле распространения и развития цифирных школ, так как последние фактически лишились своих учеников. «Синод потребовал, чтобы дети духовного сословия возвращены были в епархиальные школы, — отмечает П.Н. Милюков. — Таким образом, у цифирной школы отнята была очень значительная часть ее питомцев. Как велик был этот урон в отдельных случаях, видно из того, что после отнятия посадских и церковнических детей в четырнадцати цифирных школах совсем не осталось учеников. Эти школы пришлось закрыть...»12. Напомним, что дети духовного звания составляли почти половину общего контингента учащихся цифирных школ.
Нельзя сказать, что архиерейские школы сразу же приобрели исключительно сословно-профессиональный характер, несмотря на то что изначально задумывались именно таковыми. Но вместе с тем с определенной долей уверенности можно утверждать, что их появление в России, по существу, явилось первым шагом к созданию системы профессиональных духовно-учебных заведений в стране, по крайней мере, к этому стремился Синод. О том же свидетельствует следующий факт.
В октябре 1726 г. последовал именной указ Екатерины I об общем слиянии цифирных школ с архиерейскими. Основным «побуждением к этому распоряжению» явилось то, что в цифирных школах по-прежнему было очень мало учеников. Согласно указу они должны были поступить на общее содержание с архиерейскими школами и в полное ведение Святейшего Синода13. «Но этот указ остался без исполнения, — пишет П.В. Знаменский, — Синод не принял их в свое ведомство как до духовного пра вительства не подлежащие. Судьба назначила им слияние не с духовными школами, а с гарнизонными, каковое и последовало в 1744 г. уже при Императрице Елизавете Петровне (по указу от 26 октября)»14.
Трудно сказать, как бы сложилась дальнейшая судьба цифирных школ, возьми их тогда под свое крыло Духовное ведомство. Но в данном случае оно больше заботилось о развитии своих собственных школ, предназначенных главным образом для детей духовенства, и поэтому методично высвобождало из них представителей других сословий. Во главу угла была поставлена подготовка квалифицированных кадров для Русской православной церкви, в которых она в то время остро нуждалась. Другими словами, ведомственный интерес возобладал над общественным.
Итак, в 1744 г. оставшиеся цифирные школы, согласно указу императрицы Елизаветы Петровны, были слиты с гарнизонными. В связи с этим хотелось бы сказать несколько слов об этих учебных заведениях, которые, по словам М.Т. Белявского, «являлись преемниками и продолжателями цифирных школ петровского времени»15.
Гарнизонные школы, или, как их называли раньше, солдатские, возникли в России в конце 20-х — начале 30-х гг. XVIII столетия и являлись общеобразовательными учебными заведениями для детей солдат. Они поступали в эти школы в возрасте 6—7 лет и учились до 15— 16 лет, после чего их переводили в строй полка. Обучение солдатских детей в гарнизонных школах было обязательным. Указ от 21 сентября 1732 г. запрещал военнослужащим определять своих детей в какие-либо другие службы, кроме школ. Вместе с тем он предписывал, чтобы солдаты, не отдавшие своих детей в гарнизонные школы, несли наказание не иначе, как беглые солдаты16. В школе солдатские дети учились читать и писать. Однако главное внимание, по вполне очевидным причинам, все-таки обращалось на арифметику. В старших классах изучались геометрия, начала фортификации, артиллерии, военно-инженерного дела.
Учащиеся в этих учебных заведениях находились на полном государственном обеспечении.
Согласно статистическим данным, в начале 1730-х гг. в гарнизонных школах обучалось около 4 000 солдатских детей, а в конце 1750-х их насчитывалось уже около 6 000 чел. «Таким образом, — отмечает М.Т. Белявский, — солдатская школа — наиболее рано возникшая, массовая и самая демократическая по своему составу общеобразовательная школа того времени. <...> Массовость контингента солдатских школ, органическая связь учащихся с крестьянством и низами городского люда многое поясняют в процессе проникновения грамотности и первых элементов просвещения в народные массы того времени. Становится совершенно понятно, почему отставной солдат, наряду с дьячком обучает грамоте и арифметике деревенских и городских детишек»17.
По мере становления специальных ведомственных учебных заведений, во времена правления Анны Иоанновны (1730—1740) и Елизаветы Петровны (1741—1761), проблема всеобщего образования была отодвинута на задний план. Это объяснялось тем, что в России стал преобладать четко выраженный сословнопрофессиональный принцип образования. Так, дети духовенства, как мы уже отмечали выше, в обязательном порядке обучались в архиерейских школах, которые с начала 1730-х гг. постепенно стали преобразовываться в семинарии. В 1732 г. духовная семинария была открыта в Казани, а в 1737 — в Нижнем Новгороде. Доступ в них для других сословий сначала был ограничен, а затем и вовсе закрыт, так как они преследовали, по словам П.Н. Милюкова, прямую профессиональную задачу — готовить церковнослужителей, чтобы как гласил именной указ императрицы Анны Иоанновны 1737 г., «... от сего времени неученые люди в церковные чины определяемы не были»18.
Постепенно ограничивается доступ и в школы для детей военнослужащих — гарнизонные. Впоследствии они становятся не только сословными, но и закры тыми. Таким образом, церковные школы предназначались прежде всего для подготовки будущих священников и церковнослужителей, а гарнизонные — грамотных солдат и унтер-офицеров, писарей и мастеровых, музыкантов и прочих людей, необходимых для несения службы в полевых и гарнизонных полках19.
Особое внимание правительством уделялось просвещению нерусских народов России в целом и Поволжья в частности. Для них в первой половине XVIII столетия начали открывать специальные учебные заведения, основной целью которых являлось обращение «инородцев» в христианство. Так, в 1732 г. были учреждены школы для детей крещеных калмыков в Астрахани и Ивановском монастыре. В феврале 1735 г. императрица Анна Иоанновна повелела учредить четыре школы в Казанской губернии «для обучения как ново-крещенных вотяков, мордвы, чуваш, так разных народов новокрещенных детей читать и писать»20. Надо признать, что реализовать данное распоряжение удалось лишь в царствование Елизаветы Петровны. По Указу от 11 сентября 1740 г. в Казанской епархии предполагалось открыть четыре школы: в Казани, Царевококшайске, Елабуге и Ци-вильске, и при том в самой «скорости». Ввиду финансовых затруднений школы появились в такой последовательности: в 1744 г. была открыта школа в Свияжске (вместо Цивильской), в 1747 — в Казани, в Федотовском монастыре, в 1749 — в Елабуге и Царевококшайске. Каждая из них была рассчитана на 50 чел.21 Главной целью этих учебных заведений являлась подготовка священников и церковнослужителей для инородческих приходов. Они содержались на казенные средства. Преподавание велось на русском и церковнославянском языках. Предметами обучения были: чтение, письмо, счет, Закон Божий, церковное пение и некоторые другие. В качестве учебников выступали азбука, часослов, псалтырь, букварь, катехизис. Срок обучения составлял от 8 до 10 лет22. Лучшие же ученики продолжали свое образование в Казанской семинарии.
С организацией «новокрещенских» школ в Поволжском регионе увеличилось и количество учащихся, охваченных начальным образованием. Так, Казанская школа была рассчитана на 50 детей, а Нижегородская — на 30. При этом строго соблюдался принцип паритетности в отношении каждой национальности. Например, в Свияжской школе обучались 10 мордовских, 10 татарских, 10 марийских, 10 чувашских и 10 русских детей23. Следует признать, что, не получив правильной организации и стабильного финансирования, «новокрещенские» школы, как правило, через определенное время прекращали свое существование.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно констатировать, что школа в России первой половины XVIII в. носила ярко выраженный узкоспециальный и сословно-профессиональный характер. В первую очередь это объяснялось тем, что светская и духовная власть остро нуждались в людях, получивших профессиональную подготовку. Поэтому особое внимание уделялось развитию сети специальных учебных заведений, которые главным образом функционировали в столицах. Вместе с тем правительство мало заботилось о состоянии общеобразовательных школ, существовавших в основном в провинциальных городах, в том числе и поволжских. В конечном счете это привело к тому, что многие из них были вынуждены прекратить свое существование.
И тем не менее, оценивая в общем просветительско-образовательную деятельность Петра I и его преемников, можно с уверенностью утверждать, что в этот период в России, по сути, был заложен фундамент как светского, так и церковного образования. Именно на нем в последующие годы, путем реформирования хаотично развивавшихся светских и духовных учебных заведений, правительству предстояло построить единую госу дарственную систему народного образования.