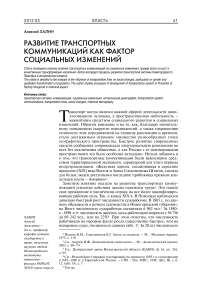Развитие транспортных коммуникаций как фактор социальных изменений
Автор: Халин Алексей Алексеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена влиянию транспортных коммуникаций на социальные изменения, прежде всего на рост и качественную трансформацию населения. Автор исследует процессы развития транспортной системы нижегородского Поволжья в историческом аспекте.
Транспортная система, коммуникации, социальные изменения, историческая демография
Короткий адрес: https://sciup.org/170166842
IDR: 170166842
Текст научной статьи Развитие транспортных коммуникаций как фактор социальных изменений
Т ранспорт всегда являлся важной сферой деятельности цивилизованного человека, а пространственная мобильность – важнейшим средством социального развития и социальных изменений. Обратим внимание и на то, как, благодаря значительному повышению скорости передвижений, а также сокращению стоимости этих передвижений на единицу расстояния и времени, стало достижимым огромное множество разнообразных точек географического пространства. Быстрое развитие современных средств сообщения сопровождало индустриальную революцию во всех без исключения обществах, а для России с ее неизмеримыми пространствами это было особенно актуально. Нельзя забывать и о том, что транспортные коммуникации были важнейшим средством территориальной экспансии, характерной для этого периода индустриализации. «Железная дорога, соединившая в середине прошлого [XIX] века Восток и Запад Соединенных Штатов, сделала для белых людей доступными последние прибежища прежних владельцев земли – Америки»1.
ХАЛИН Алексей
Заметное влияние оказало на развитие транспортных коммуникаций усиление действия закона перемены труда2. Это нашло свое проявление в увеличении спроса на все более квалифицированную рабочую силу. Так, к концу XIХ в. В Поволжье наблюдался довольно быстрый рост численности судорабочих. В 1865 г., по данным «Ведомости о речном судоходстве в Нижегородской губернии», на Волге численность судорабочих составляла 6 962 чел.3 За 1880-е–1890-е гг. численность занятых здесь работников возросла с 56 756 до 69 242 чел., или на 22%4. При этом отметим, что численность работников на паровом флоте росла существенно быстрее, чем на непаровых судах, что видно из данных табл. 15. За 20 лет численность
Таблица 1
|
Год |
На непаровом флоте, чел. |
На паровом флоте, чел. |
Соотношение служащих на непаровом/паровом флоте, % |
|
1884 |
44 439 |
12 317 |
78,3/21,7 |
|
1890 |
37 888 |
16 824 |
69,2/30,8 |
|
1895 |
47 574 |
21 668 |
68,7/31,3 |
Численность служащих на судах парового и непарового флота
В олжского бассейна в 1884–1895 гг.
работников на непаровых судах выросла на 7% (с 44 439 до 47 574), в то время как на паровом флоте ее рост составил 76%. В связи с этим доля работников волжского судоходства, занятых на паровых судах, выросла с 21,7 до 31,3%. При этом следует отметить, что в системе волжского судоходства на судах парового флота было занято более 60% числа всех работников этой категории в Европейской России (в 1884 г. – 65,6%; в 1895 г. – 66,3%) и около половины работников непарового флота (в 1884 г. – 47,2%; в 1885 г. – 49,8)1.
Однако особенно отчетливо появление новых социальных групп и рост их численности отразились в формировании новых отрядов российского пролетариата не только на судоходном, но, прежде всего, на железнодорожном транспорте. Возникновение и развитие железных дорог как составной части капиталистического способа производства привело к созданию одного из наиболее квалифицированных отрядов рабочего класса – железнодорожников. Московско-Нижегородская железная дорога оказала большое влияние на окрестных жителей, втягивая их в сферу капиталистического наемного труда. После окончания строительства железной дороги часть строителей осталась здесь в качестве служащих. Источником формирования железнодорожных кадров на линии служили практически все сословия, хотя их доля в этом процессе была различной.
Основными источниками формирования кадров Нижегородской линии были крестьянство и мастеровые люди. Ко второй категории можно отнести как занимавшихся промыслами, так и работавших на фабриках и заводах. Доля мастеровых людей в структуре железнодорожных кадров превышала половину всех занятых. Это, видимо, было связано со спецификой Нижегородской дороги, т.к. она пролегала по губерниям с развитой промышленностью и промыслами, причем связанными в основном с металлообработкой. Так, в службе тяги из 33 мастеровых 8 были горнозаводскими рабочими Шепелевых и Баташевых, 6 занимались кузнечным, медницким, слесарным и токарным промыслами, 4 работали в фабричных заведениях, 7 – иностранцы, занимавшиеся на родине слесарным делом2. Об оставшихся 8 работниках известно лишь, что они мастеровые. Крестьяне пополняли собой самую неквалифицированную службу – ремонт пути и зданий. Их доля составляла здесь 65%.
Действие закона перемены труда проявлялось и в том, что эксплуатация железных дорог все настойчивее требовала грамотных людей. Это хорошо сознавали и в Управлении путей сообщения, и в частных железнодорожных обществах. В 1870 г. А.И. Дельвиг в одном из писем в Совет управления главного общества справедливо и в то же время озабоченно отмечал: «Недостаток опытных и хорошо знающих службу машинистов и других низших служащих сильно чувствуется на всех железных дорогах в России»3.
Нижегородская железная дорога не была в этом плане исключением. Но здесь уже в 1865 г. при ковровских мастерских была открыта общеобразовательная школа, а в 1874 г. – специальный технический класс. До 1882 г. д ействовало железнодорожное
Таблица 2
Степень эксплуатации рабочих и служащих Нижегородской линии
Из стен ковровского училища в первые годы (1874–1880 гг.) выходило по 10–15 чел., окончивших полный курс; впоследствии их число выросло до 20–25 выпускников. За годы его существования отсюда вышли около 300 специалистов. Кроме того, были «получившие свидетельства» и окончившие 1–2 класса училища. Всего через училища Нижегородской линии прошло около 650 чел. Почти 2/3 выпускников (63%) становились специалистами по службе подвижного состава и тяги; по службе пути и зданий – 13%; по службе движения – 5%. Остальные уходили с Нижегородской линии на другие железные дороги страны2. Это были уже, бесспорно, потомственные рабочие, т.е. люди, совершенно порвавшие с землей как источником средств существования, которые жили исключительно продажей рабочей силы.
Всего за полтора десятилетия (1878– 1893 гг.) численность железнодорожников на Нижегородской линии Московско-Нижегородской железной дороги возросла на 64%. Соотношение различных категорий работников шло по пути увеличения доли поденных и временных, что было в интересах хозяев общества, стремившихся лишить льгот (которыми пользовались штатные работники) как можно большее число служащих.
Экономическое положение рабочих и большинства служащих Московско-Нижегородской железной дороги в описываемый период было довольно тяжелым. В то же время работники линии своим трудом приносили Главному обществу немалый ежегодный доход. Прибыли акционе- ров обеспечивались эксплуатацией рабочих и служащих. Как известно, К. Маркс ввел в научный оборот понятие «степень эксплуатации рабочей силы». Историки-исследователи рабочего класса не слишком часто пользуются этим понятием, а если и пользуются, то в общем смысле. Между тем, это понятие имеет вполне конкретное, математически вычисляемое содержание. Методику его подсчета указал в «Капитале» К. Маркс3, а впоследствии – и В.И. Ленин в работе «Заработки рабочих и прибыль капиталистов в России»4. Попытка конкретного подсчета степени эксплуатации железнодорожников была предпринята С.Г. Струмилиным5.
Согласно формуле Маркса, степень эксплуатации рабочего класса определяется отношением прибавочной стоимости, созданной рабочими, к переменному капиталу, т.е. отношением прибыли к объему заработной платы всех работающих. На материалах Нижегородской линии мы попытаемся показать степень эксплуатации ее работников. Правда, степень эксплуатации будет здесь несколько занижена, т.к. чистый доход не всегда точно отражал прибыли капиталистов. И все же эти данные представляют определенный интерес для истории рабочего класса России (см. табл. 2).
Как мы видим, степень эксплуатации наемных работников колебалась в пределах 250–300%, имея некоторую тенденцию к понижению. В 1893 г. средняя степень эксплуатации железнодорожников в стране, по данным С.Г. Струмилина, была немногим более 100% (112%)1. На Нижегородской дороге она в два раза выше. Причина – в специфике железнодорожного хозяйства, которое требует, независимо от его доходности, примерно одинакового числа работников. Приносит ли линия доход или она убыточна – это почти не влияет на численность обслуживающего ее персонала, следовательно, и на общее содержание (зарплату) работников. Таким образом, на более доходных железных дорогах степень эксплуатации становилась автоматически больше, чем на малодоходных или убыточных линиях.
Мы затронули в этой статье лишь самый ранний этап индустриальной революции в России на примере только одного из форпостов этой революции – Нижегородской губернии. И, как нам кажется, убедились в том, что некоторые из общих законов и закономерностей этого глобального процесса здесь подтвердились. Хотя, повторяем, учитывая, что российская индустриальная революция началась на столетие позднее, чем в большинстве продвинутых (на сегодняшний день) обществ, многие из социальных изменений, характерных для «классического» старта индустриализации, занимали здесь более краткие исторические периоды, а потому были несколько более жесткими, а значит болезненными.
Интересующую нас – и заявленную в заголовке статьи – проблему можно было бы резюмировать следующим образом. В ходе индустриальной революции быстрыми темпами развиваются не только производящие отрасли, но и вся инфраструктура, важнейшей составной частью которой являются транспортные артерии. Если вспомнить, что одним из важнейших принципов фабричного кода (особенно при массовом производстве) является синхронизация всех процессов экономики (включающей в себя производство, распределение и потребление материальных благ), становится ясным, насколько важной является быстрая и своевременная доставка сырья и комплектующих изделий производителю, а готовой продукции – потребителю. А учитывая, что объемы производства в ходе индустриализации возрастают в геометрической прогрессии, необходимо признать, что соответствующими темпами должна развиваться и транспортная система.
И действительно, уже на самых ранних этапах индустриальной революции развитие транспортных средств попадает в сферу внимания как предпринимателей, так и инженеров. В 1807 г. американец Роберт Фултон пустил по Гудзону первый пароход. Еще через 20 лет паровой двигатель установили на колеса, и по рельсам пошел паровоз. К 1840, самое позднее – к 1850 г. паровой двигатель полностью изменил все виды производственных технологий – от изготовления стекла до печатного дела. Произошли коренные изменения в области дальних сухопутных и морских перевозок, начались преобразования в сельском хозяйстве. К середине XIX в. паровая машина применялась по всему миру, за исключением, может быть, Тибета, Непала и внутренних районов тропической Африки2. И это коренным образом меняет условия социальной жизни не только на макро-, но и на микроуровне. Большие массы людей быстро привыкают к удобствам и быстроте перемещения на большие расстояния с помощью железных дорог, пароходов, а вслед за этим – автомобилей и авиации; население становится все более мобильным, а жизнь его – все более динамичной.
Хотя нельзя, вероятно, забывать и о негативных тенденциях такого рода социальных изменений в сфере транспортных коммуникаций. Так, массовая автомобилизация на Западе проявила свои темные стороны еще полвека назад. Сегодня эти проблемы докатились и до нас: загазованность атмосферы, многокилометровые пробки, проблемы парковок, утилизации устаревших машин – вряд ли этим можно сегодня обрадовать жителей российских мегаполисов. Между тем, только по областному центру – Нижнему Новгороду – парк личных автомобилей ежегодно растет на 30 тысяч единиц. А ведь за этими проблемами отчетливо просматривается снижение качества жизни.