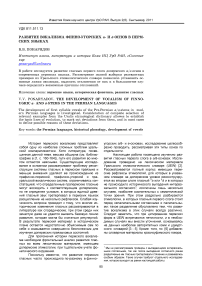Развитие вокализма финно-угорских а- и "a-основ в пермских языках
Автор: Понарядов В.В.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Рубрика: Историко-филологические науки
Статья в выпуске: 2 (6), 2011 года.
Бесплатный доступ
В работе исследуется развитие гласных первого слога допермских a/ä-основ в современных пермских языках. Рассмотрение полной выборки релевантных примеров из Уральского этимологического словаря позволило установить основные линии эволюции, выделить отклонения от них и в большинстве случаев определить возможные причины отклонений.
Пермские языки, историческая фонетика, развитие гласных
Короткий адрес: https://sciup.org/14992460
IDR: 14992460 | УДК: 811.511.13
Текст научной статьи Развитие вокализма финно-угорских а- и "a-основ в пермских языках
История пермского вокализма представляет собой одну из наиболее сложных проблем уральской компаративистики. Хотя литература, посвященная данной теме, весьма обширна (см. библиографию в [1, с. 160-164]), пути его развития во многом остаются неясными. Существующие исследования в основном рассматривают проблему реконструкции системы гласных в пермском праязыке и меньше внимания уделяют ее происхождению из прафинно-пермской, прафинно-угорской и пра-уральской вокалических систем, ограничиваясь констатацией, что определенные прапермские гласные могут восходить к соответствующим допермским, но не определяя условия, в которых единый древний гласный звук претерпевал в пермских языках расщепление на несколько рефлексов. Слабая изученность вопроса приводит к тому, что многие исторические изменения гласных рассматриваются в литературе как спорадические; при этом среди них зачастую даже не удается выявить базовую линию развития, которая могла бы считаться регулярной. В результате пермский материал в историческом плане остается недостаточно объяснимым сам по себе и оказывается совершенно бесполезным для изучения допермских праязыковых состояний.
Для прояснения истории пермского вокализма необходим фронтальный анализ развития гласных во всем лексическом материале, имеющем допермские этимологии, при тщательном учете фонетического окружения.
Поскольку известно, что развитие пермских гласных часто происходило по-разному в финно- угорских a/a- и e-основах, исследование целесообразно проводить, рассматривая эти типы основ по отдельности.
Настоящая работа посвящена изучению развития гласных первого слога в a/a-основах. Исследование проведено на лексическом материале Уральского этимологического словаря (UEW) [2]. Рассматривается полный корпус имеющих пермские рефлексы этимологий, для которых в указанном словаре на допермском уровне реконструируется во втором слоге гласный * а или * а и в которых не происходило исторического выпадения интервокального согласного1; исключены лишь несколько случаев, наиболее сомнительных с семантической точки зрения. При этом раздельно разбираются этимологии, в которых гласный первого слога стоит перед непалатальными согласными и палатальными; такое разделение обусловлено тем, что развитие вокализма в этих случаях всегда различно. Следует заметить, что при цитировании пермских форм в UEW встречаются неточности, и в необходимых случаях мы внесли уточнения, основываясь на данных наиболее авторитетных коми и удмуртского словарей [3 - 5]. Кроме того, по [6] добавлены словарные материалы красноуфимского говора, представляющего дивергентную в вокалическом отношении южную группу удмуртских диалектов2.
Развитие гласного * a .
-
а) Перед непалатальными согласными.
-
* ala > кз. uv , кп. uvt , кя. ult , у. ul , ку. ul ‘низ’ [2, с. 6];
-
* anta- > кз. udni̮ , кп. u·dni̮ , кя. udnө· , у. udi̮ni̮ , ку. udǝ̑nǝ̑ ‘поить’ [2, с. 8];
-
* jaka- > кз. jukni̮ , кп. jukni̮ , у. l'ukin̮ i̮ , ку. ʒ́ukǝ̑nǝ̑ ‘делить’ [2, с. 87];
-
* karwa > кз. kurid̮ , кп. ku·ri̮ t , кя. kurө·t , у. kurit̮ , ку. kurǝ̑t ‘горький’ [2, с. 128];
-
* maksa > кз. mus , кп. mus , кя. musk , у. mus , ку. muš ‘печень’ [2, с. 264];
-
* para > кз. bur , кп. bur , кя. bur ‘хороший’, у. bur ‘хороший; правый’, ку. bur ‘правый’ [2, с. 724];
-
* śasra > кз. śurs , у. śurs , ку. śurǝ̑s ‘тысяча’ [2, с. 466-467];
-
* tarna > кз. turun , кп. turu·n , кя. turө·n , у. turin̮ , ку. turum ‘трава’ [2, с. 792];
-
* wanša > кз. važ , кп. važ , кя. važ , у. vuž , ку. βuž ‘старый’ [2, с. 813];
-
* waŋka > кз. vug , кп. vug , у. vugi̮ ‘крюк’ [2, с. 814].
Во всех случаях, кроме одного, * a единообразно отражается в пермских языках в виде u . Особое развитие * wanša в коми языках может быть связано с влиянием согласного * š , характеризующегося маркированной веляризацией.
-
б) Перед палатальными согласными.
-
* kaδ'a- > кз. kol'ni̮ , кп. ko·l'ni̮ , кя. ku·l'nө , у. ki̮l'in̮ i̮ , ку. kǝ̑l'ǝ̑nǝ̑ ‘оставаться’ [2, с. 115];
-
* maja > кз. moj , кп. moj , у. mi̮ji̮ ‘бобр’ [2, с. 697];
-
* waja- > кз. ve̮jni̮ , кп. ve̮·jni̮ , кя. vu̇·jnө , у. vi̮jin̮ i̮ ‘тонуть’ [2, с. 551].
Очевидно, здесь можно говорить о регулярном развитии в коми-зырянском и коми-пермяцком языках в o, а в удмуртском литературном – в i̮ . Зырянский и пермяцкий рефлекс e̮ в последнем примере появляется, вероятно, под влиянием начального *w > v. Объяснить разнообразие рефлексов в коми-язьвинском не представляется возможным из- за скудности имеющегося материала, но вряд ли можно сомневаться, что это разнообразие возникло на собственно язьвинской почве. В единственном наличествующем примере из красноуфимского говора видим ǝ̑, вполне ожидаемый как обычное красноуфимское соответствие удмуртскому литературному i̮ .
Развитие гласного * o .
-
а) Перед непалатальными согласными.
-
* kočka > кз. kuč , кп. kuč ‘орёл’, у. kuč ‘маленькая птица, похожая на орла’ [2, с. 668];
-
* lowna > кз. lun , кп. lun , кя. lun , у. nunal , ку. nunal ‘день’ [2, с. 693];
-
* ora > кз. ur , кп. ur , кя. ur ‘белка’ [2, с. 343];
-
* pora > кз. pur , кп. pur ‘плот’ [2, с. 395];
-
* śoδka > кз. śuv , кп. śuv , у. śuli̮ ‘вид утки’ [2, с. 482];
-
* śorwa > кз. śur , кп. śur , кя. śur , у. śur , ку. śur ‘рога’ [2, с. 486-487];
-
* tola > кз. tuv , кп. tuv , кя. tul ‘гвоздь’, у. tul ‘клин’ [2, с. 797];
-
* wosa > кз. vuzavni̮ , кп. vuza·vni̮ , кя. vuza·lnө , у. vuzani̮ , ку. βužanǝ̑ ‘продавать’ [2, с. 585].
Допермский * o перед непалатальными согласными везде единообразно отражается в виде u , т.е. имеет место тот же рефлекс, что и у доперм-ского * a .
-
б) Перед палатальными согласными.
Для позиции перед палатальным согласным имеется только один надежный пример, причем без красноуфимского соответствия:
-
* k olja > кз. kul' , кп. kul' , кя. ku̇l' , у. ki̮l' ‘злой дух’ [2, с. 173].
Удмуртский рефлекс совпадает с рефлексом допермского * a . Разнообразные и своеобразные коми рефлексы, по-видимому, являются результатом позднего развития уже в отдельных коми диалектах (ср. выше о многообразии коми рефлексов допермского * a ). Таким образом, представляется вероятным, что в прапермскую эпоху различение между допермскими * a и * o было полностью утрачено как в непалатальном, так и в палатальном контекстах.
Развитие гласного * ä .
-
а) Перед непалатальными согласными.
-
* kämä > кз. ke̮m , кп. ke̮m , кя. kоm ‘обувь’ [2, с. 650];
-
* pälä > кз. pe̮ v , кп. pe̮ v , кя. pоl , у. pal , ку. pal ‘половина, один из пары’ [2, с. 362];
-
* pälkä > кз. pev , кп. pev , кя. pel , у. pe̮li̮ ‘большой палец’ [2, с. 363];
-
* räppä > кз. rep̮ e̮d , у. ǯopi̮ ‘дымовое отверстие’ [2, с. 743];
-
* säksä > кз. se̮s , у. ses ‘грязный’ [2, с. 755];
-
* säppä > кз. se̮p , кп. se̮p , кя. sоp , у. sep ‘желчь, желчный пузырь’ [2, с. 435-436];
-
* śälä или * ćälä > кз. će̮li̮štni̮ ‘отрезать ломтик’,
у. ćali̮štni̮ , ćališ̮ karin̮ i̮ , ку. ćalǝ̑štǝ̑nǝ̑ ‘затесать кол’ (КЭСК: 311; UEW: 470];
-
* tälwä > кз. tev̮ , кп. tev̮ , кя. tоl , у. tol , ку. tol ‘зима’ [2, с. 516].
Очевидно, что в коми ветви в качестве регулярного должно рассматриваться развитие до-пермского * ä в кз., кп. e̮ , кя. о . Единственное исключение, наблюдающееся в эволюции вокализма слова * pälkä ‘большой палец’, может быть связано с влиянием упростившегося в пермских языках консонантного сочетания * lk . Рефлексы в удмуртском довольно разнообразны, и определить условия их появления представляется затруднительным. Ясно только, что это многообразие рефлексов появилось уже на собственно удмуртской почве и не должно проецироваться на прапермский уровень.
-
б) Перед палатальными согласными.
-
* śäšnä или * śäćnä > кз. śiź , кп. śiź , кя. śiź , у. śiź ‘дятел’ [2, с. 772];
-
* wäśä > кз. viśni̮ , кп. viśni̮ , кя. viśnө· , у. viśin̮ i̮ , ку. βiśǝ̑nǝ̑ ‘болеть’ [2, с. 818].
По этим примерам можно заключить, что регулярным развитием прафинно-угорского * ä перед палатальными согласными во всех пермских языках является i . Однако надежность данного вывода снижается тем, что фактически засвидетельствованы только случаи перед палатальными спирантами ś и ź , и развитие в i может быть на самом деле ограничено соседством только с ними.
Развитие гласного * e .
-
а ) Перед непалатальными согласными.
-
* ćečä > кз. ćož , кя. ćož , у. ćuž ‘дядя’ [2, с. 34];
-
* elä- > кз. ovni̮ , кп. o·vni̮ , кя. o·lnө , у. uli̮ni̮ , ку. ulǝ̑nǝ̑ ‘жить’ [2, с. 73];
-
* ertä > кз. ord , кп. o·rdli̮ , кя. o·rdlө , у. urd , ку. urdešlǝ̑ ‘ребро’ [2, с. 625];
-
* kečä > кз. ki̮č , кп. ki̮č , кя. kөč ‘круг’, у. ki̮č ‘петля, силок’ [2, с. 141-142];
-
* kerä- > кз. korni̮ , кп. ko·rni̮ , кя. ko·rnө , у. kurin̮ i̮ ‘просить’ [2, с. 149];
-
* mertä > кз. mort , кп. mort , кя. mort , у. murt , ку. murt ‘человек’ [2, с. 702];
-
* ńeljä или * neljä > кз. ńol' , кп. ńol' , кя. ńul' , у. ńi̮l' , ку. ńu̇l' ‘четыре’ [2, с. 315-316];
-
* pečä > кз. pože̮m , кп. požu·m , кя. po·žөm , у. puži̮m , ку. pužǝ̑m ‘сосна’ [2, с. 727];
-
* perä > кз. ber̮ , кп. ber̮ , кя. bоr , у. ber , ку. ber ‘задняя часть’ [2, с. 373];
-
* pesä > кз. poz , кп. poz , кя. poz , у. puz ‘гнездо’ [2, с. 375];
-
* terä > кз. dor , кп. dor , кя. dor , у. dur , ку. dur ‘край, сторона’ [2, с. 522)3;
-
3 UEW реконструирует отдельно * terä ‘острый край, лезвие’ и * terз ‘край, сторона’, причем рассматриваемые нами перм-
- *teškä или *tekšä > кз. toš, кп. toš, кя. tu·š, у. tuš, ку. tuṧ ‘борода’ [2, с. 795].
В большинстве примеров наблюдается развитие допермского * e в кз., кп., кя. o , у., ку. u . Развитие в i̮ в случае * kečä > кз. ki̮ č , кп. ki̮ č , кя. kөč ‘круг’, у. ki̮ č ‘петля, силок’ является свидетельством раннего перехода этого слова к e -основам, где такая эволюция закономерна, т.е. в раннепермском праязыке вместо * kečä употреблялось * keče . Для * teškä или * tekšä ‘борода’ и * ńeljä или * neljä ‘четыре’ суженный рефлекс кя. u и опередненный ку. u̇ определяется влиянием последующих веляризованных согласных * š и * l . Развитие в архетипе * perä ‘задняя часть’ может быть объяснено имевшей место в раннепрапермском вокалической ассимиляцией в * pärä , откуда формы современных языков выводятся регулярно.
-
б) Перед палатальными согласными.
* kećä > кз. gi̮ ć ‘карась’ [2, с. 141].
Имеется только этот пример на положение перед палатальными согласными с развитием * e > кз. i̮ , причем представлена лишь коми-зырянская форма без других пермских соответствий. Изолированность случая не позволяет ничего сказать о его регулярности.
Развитие гласного * u .
-
а) Перед непалатальными согласными.
-
* čukka > кз. či̮kni̮ , кп. či̮kni̮ , кя. čөknө· ‘портиться’, у. čik̮ mi̮ni̮ ‘зарастать сорняком’ [2, с. 622];
-
* kuma > кз. ki̮mes̮ , кп. ki̮me·̮s , кя. kөmө·s , у. ki̮mes , ку. kǝ̑meš ‘лоб’ [2, с. 201-202];
-
* kumpa > кз. gib̮ avni̮ , кп. gi̮ba·lni̮ , кя. gөba·lnө ‘плескаться (о рыбе)’ [2, с. 203)4;
-
* kura > кз. gi̮e̮r , кп. gie̮̮r , у. ge̮r ‘иней’ [2, с. 215];
-
* mura > кз. mi̮rpom ‘морошка’ [2, с. 287];
-
* puna- > кз. pi̮nni̮ , у. punin̮ i̮ , ку. puṅ ǝnǝ ‘вить (веревку)’ [2, с. 402-403];
-
* pura > кз. pi̮r , кп. pi̮r , кя. pөr , у. pi̮r , ку. pǝ̑r ‘через, сквозь’ [2, с. 405];
ские этимоны относятся к последнему из этих двух архетипов. Подобное разделение не имеет под собой никакого объективного основания и должно быть признано недоразумением; как видно из приводимого нами материала, коми dor и удмуртское dur выводятся из * terä совершенно регулярно, и само развитие вокализма в них указывает именно на * ä -основу (при * e -основе ожидалось бы развитие в первом слоге
-
* sula- > кз. si̮vni̮ , кп. si̮vni̮ , кя. sөlnө· , у. si̮lin̮ i̮ ‘таять’ [2, с. 450];
-
* tulka > кз. ti̮v , кя. tөl , у. ti̮li̮ , ку. tǝ̑lǝ̑ ‘перо’ [2, с. 535-536];
-
* turpa > кз. tir̮p , кп. ti̮rp , кя. tөrp , у. ti̮rpi̮ ‘губа’ [2, с. 801].
В приведенных примерах хорошо прослеживается регулярное развитие * u > кз., кп., у. i̮ , кя. ө , ку. ǝ̑ . В развитии вокализма слова * puna- ‘вить (веревку)’ удмуртский язык демонстрирует лабиализацию под влиянием начального губного согласного p- .
-
б) Перед палатальными согласными.
-
* kuja > кз. kod' , кп. kod' , кя. kud' , у. kad' ‘как, подобно’ [2, с. 195];
-
* muja- > кз. mojd , кп. mod' , кя. mod' , у. mad' ‘сказка’ [2, с. 284];
-
* puńća- или * puća- > кз. pi̮ćki̮ni̮ , кп. pićki̮ni̮ , у. pi̮ćki̮ni̮ ‘выдавливать’ [2, с. 404].
Первые два примера на позицию перед палатальным * j дают устойчивое развитие в кз., кп. o , у. a , но в коми-язьвинском в первом случае видим u , во втором o . Объяснить такое различие можно тем, что кя. kud' в отличие кя. mod' является безударной энклитикой. В последнем примере развитие вокализма по неизвестной причине аналогично развитию в непалатальных контекстах, если не считать опереднения кп. i < i̮ перед палатальным ć . Возможно, здесь требуется коррекция реконструкции допермского архетипа; если предположить доперм-ский архетип * punća- , то рефлексы закономерны.
Развитие гласного * ü .
-
а) Перед непалатальными согласными.
Этот гласный традиционно принято проецировать на прафинно-угорский уровень прежде всего по данным прибалтийско-финских языков, где он сохраняется в неизменном виде. Однако UEW отступает от подобной практики, повсеместно предлагая альтернативные реконструкции с * ü и * i . Такое решение не представляется оправданным хотя бы уже потому, что вместе с прибалтийско-финскими языками отличные от * i рефлексы пра-финно-угорского * ü обнаруживают и пермские языки. Ниже мы цитируем лишь приводимые в UEW варианты реконструкций с * ü .
-
* δ'ümä > кз. l'em , кп. l'em ‘клей’, кя. l'e·mөtnө ‘приклеивать’, у. l'em ‘клей’ [2, с. 66];
-
* külmä > кз. ki̮n , кп. ki̮n , кя. kөn , у. ki̮n , ку. kǝ̑n ‘мерзлый’ [2, с. 663];
-
* künä или * küńä > кз. gi̮rʒ́ʒá , кп. gi̮rʒ́ʒá · , кя. gөrʒ́a· , у. gi̮rpum , ку. gǝ̑rpuŋ ‘локоть’ [2, с. 158];
-
* śüδämз > кз. śe̮le̮m , кп. śe̮le̮m , кя. śо·lөm , у. śulem , ку. śu̇lem ‘сердце’ [2, с. 477];
-
* wülä > кз. vi̮v , кп. vi̮v , кя. vөl , у. vi̮l , ку. vǝ̑l ‘верх’ [2, с. 573-574].
Несмотря на немногочисленность примеров, можно предположить, что регулярным отражением прафинно-угорского *ü в пермских языках является кз., кп., у. i̮ , кя. ө, ку. ǝ̑, т.е. наблюдается тот же ряд соответствий, что и для *u. Отсюда следует вывод об утрате противопоставления между *u и *ü в раннепермском праязыке. Необычное развитие вокализма в *śüδämз объясняется особой слоговой структурой этого слова (редукция прафинно-угор-ской трехсложной основы в пермскую двусложную при сохранении открытого характера первого слога вместо характерной для других случаев редукции прафинно-угорской двусложной основы в пермскую односложную с преобразованием первого открытого слога в закрытый). Что касается архетипа *δ'ümä, то пермские рефлексы указывают на то, что реконструкция первого гласного в виде *ü здесь скорее всего ошибочна (ср. альтернативные реконструкции *δ'ümä и *δ'imä в UEW; о возможности развития прафинно-угорского *i в пермское e см. ниже).
-
б) Перед палатальными согласными.
-
* üćä > кз. iće̮t , кп. uće̮·t'ik , кя. u̇ćѳ·t ‘маленький’, у. ići ‘мало’ [2, с. 78];
-
* wüŋä > кз. ve̮ń , кп. voń , кя. vu·ń ‘пояс’ [2, с. 575].
В этих двух примерах пермское вокалическое развитие различно, но на регулярность скорее претендует развитие в * wüŋä ‘пояс’, ибо слово со значением ‘маленький’ в связи со своим экспрессивным характером с большой вероятностью могло исторически подвергаться формальным деформациям незакономерного характера.
Развитие гласного * i .
-
а) Перед непалатальными согласными.
В части слов с этим гласным в первом слоге UEW реконструирует во втором слоге широкий гласный * a , и в части * ä . Очевидно, здесь имеет место проецирование на праязыковый уровень различения, наблюдающегося в прибалтийско-финских языках. В пермских языках каких-либо следов противопоставления древних * a и * ä во втором слоге, по-видимому, не обнаруживается.
-
* (j)iša > кз. ež ‘поверхность; покров’ [2, с. 636];
-
* ilma > кз. jen , кп. jen , кя. jen , у. inmar , ку. inmär ‘бог’ [2, с. 81-82];
-
* piča > кз. poč , кп. poč , кя. poč , у. puč ‘жердь’ [2, с. 729];
-
* pićla > кз. peliś̮ , кп. pe·li̮ś , кя. pe·lөś , у. paleź , ку. paleź ‘рябина’ [2, с. 376];
-
* sitta > кз. sit , у. sit' ‘испражнения’ [2, с. 444];
-
* śilmä > кз. śin , кп. śin , кя. śin , у. śin , ку. śiń ‘глаз’ [2, с. 479];
-
* wiša > кз. vež , кп. viž , кя. viž , у. vož , ку. βož ‘зеленый’ [2, с. 823].
Рефлексы весьма запутаны, но видно, что допермское *i в коми идиомах дает обычно e, кроме позиции между двумя дентальными или палатальным и дентальным согласными (*sitta, *śilmä), когда происходит развитие в i. Причина сужения в случае *wiša > кп., кя. viž (но кз. vež) не ясна. Удмуртский язык имеет i также и в развитии допермского *ilma, где в коми рефлексах e. Отклоняющиеся от i удмуртские рефлексы, вероятно, обусловлены консо- нантным окружением и появились в период самостоятельного развития удмуртского языка. Для слова ‘жердь’ пермские рефлексы скорее указывают на допермское *peča.
-
б) Перед палатальными согласными.
-
* mińä > кз. moń , кп. moń , кя. muń , у. meń ‘невестка, сноха’ [2, с. 276].
Поскольку этот пример на развитие * i в позиции перед палатальным согласным является единственным, ничего нельзя сказать о степени его регулярности.
Итак, для допермских a/ä -основ типичными и регулярными можно считать следующие рефлексы гласных первого слога перед непалатальными согласными:
-
* a > кз. u , кп. u , кя. u , у. u , ку. u ;
-
* o > кз. u , кп. u , кя. u , у. u , ку. u ;
-
* ä > кз. e̮ , кп. e̮ , кя. о , удмуртские рефлексы разнообразны;
-
* e > кз. o , кп. o , кя. o , у. u , ку. u ;
-
* u > кз. i̮ , кп. i̮ , кя. ө , у. i̮ , ку. ǝ̑ ;
-
* ü > кз. i̮ , кп. i̮ , кя. ө , у. i̮ , ку. ǝ̑ ;
-
* i > кз. e , i , кп. e , i , кя. e , i , удмуртские рефлексы разнообразны.
Для позиций перед палатальными согласными, как правило, имеется мало примеров (для некоторых гласных только по одному), что делает результаты здесь менее надежными, но все же можно отметить следующие тенденции развития:
-
* a > кз. o , кп. o , кя. u или u̇ , у. i̮ , ку. ǝ̑ ;
-
* o > кз. o , кп. o , кя. u̇ , у. i̮ , ку. ǝ̑ ;
-
* ä > кз. i , кп. i , кя. i , у. i , ку. i ;
-
* e – надежных примеров нет;
-
* u > кз. o , кп. o , кя. o или u , у. a , красноуфимских примеров нет;
-
* ü – надежных примеров нет;
-
* i – надежных примеров нет.
Как видим, возможности выявления закономерностей развития пермских гласных нередко ограничиваются недостаточным количеством релевантных примеров и их ненадежностью. Однако в большинстве случаев пути развития все же могут быть установлены, и пермский материал открывает новые перспективы для уточнения прафинно-перм-ских, прафинно-угорских и прауральских вокалических реконструкций.
Список литературы Развитие вокализма финно-угорских а- и "a-основ в пермских языках
- Некрасова Г.А. Коми кывлöн историческöй фонетика. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2000. 170 лб.
- Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988. XLVIII + 905 S.
- Безносикова Л.М., Айбабина Е.А., Коснырева Р.И. Коми-русский словарь. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2000. 816 с.
- Баталова Р.М., Кривощекова-Гантман А.С. Коми-пермяцко-русский словарь. М.: Русский язык, 1985. 624 с.
- Удмуртско-русский словарь. М.: Русский язык, 1983. 592 с.
- Насибуллин Р.Ш. Наблюдения над языком красноуфимских удмуртов//О диалектах и говорах южноудмуртского наречия. Ижевск: НИИ при Совете Министров Удмуртской АССР, 1978. С. 86-151.
- Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. М.: Наука, 1970. 388 с.