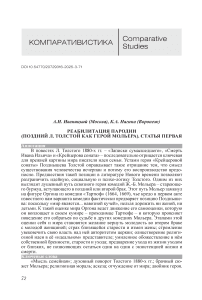Реабилитация пародии (поздний Л. Толстой как герой Мольера). Статья первая
Автор: А.И. Иваницкий, К.А. Нагина
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
В повестях Л. Толстого 1880-х гг. – «Записки сумасшедшего», «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова соната» – последовательно отрицается ключевая для прежней картины мира писателя идея семьи. Устами героя «Крейцеровой сонаты» Позднышева Толстой оправдывает такое отрицание тем, что смысл существования человечества исчерпан и потому его воспроизводство вредоносно. Предшествия такой позиции в литературе Нового времени позволяют разграничить идейную, социальную и психо-логику Толстого. Одним из них выглядит душевный путь сквозного героя комедий Ж.-Б. Мольера – стареющего буржуа, вступающего в поздний или второй брак. Этот путь Мольер замкнул на фигуре Оргона из комедии «Тартюф» (1664, 1669), чье кредо в первом акте известного нам варианта комедии фактически предваряет позицию Позднышева: поскольку «мир является... навозной кучей», нельзя дорожить ни женой, ни детьми. К такой оценке мира Оргона ведет движение его самооценки, которую он воплощает в своем кумире – проходимце Тартюфе – и которую проясняет поведение его собратьев по судьбе в других комедиях Мольера. Этапами этой оценки себя и мира становятся желание вернуть молодость во втором браке с молодой женщиной; страх близящейся старости и измен жены; стремление увековечить свою власть над ней авторитетом церкви; олицетворение религиозной идеи в её «идеальном» представителе; умиленное обожествление в нём собственной бренности, старости и ухода; предварение ухода из жизни уходом от близких, не позволяющих остаться один на один с экзистенцией жизни и смерти.
«Мысль семейная», духовный поворот Толстого 1880-х гг., брачный сюжет Мольера, религиозная мораль, аскеза, отчуждение от мира, двойник героя
Короткий адрес: https://sciup.org/149149377
IDR: 149149377 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-71
Текст научной статьи Реабилитация пародии (поздний Л. Толстой как герой Мольера). Статья первая
“The idea of the family”; Tolstoy’s spiritual turn in the 1880s; Moliere’s marriage plot; religious morality; austerity; alienation from the world; the hero’s doppelganger.
Повести Льва Толстого 1880-х гг. «Записки сумасшедшего» (начаты в 1884 г., но не закончены), «Смерть Ивана Ильича» (1886) и «Крейцерова соната» (1887–1890) последовательно отрицают ключевую в его прежней картине мира «мысль семейную » - заданную в «Семейном счастии» (1859) и развернутую в «Войне и мире» (1863–1869) и «Анне Карениной» (1873–1877). Устами героя «…сонаты» Позднышева Толстой представляет супружескую любовь таким же злом, как «беззаконную» – изображенную в «Анне Карениной» (притом, что жену Позднышев убивает из ревности, защищая свое монопольное право на эту любовь). Оправдывается же он тем, что смысл существования человечества исчерпан, а потому его воспроизводство вредоносно: « Если нет цели... если жизнь для жизни нам дана, то незачем жить ...» [Толстой 19781985, XII, 146].
Идейный сдвиг Толстого в 1880-е гг. подробно описан. Но отчетливой идейной близостью автора и героя (опосредованной рассказчиком – см.: [Фаустов 2019, 151–171] «Крейцерова соната» во многом подытоживает «монологическую» модель малой прозы Толстого, периодически ведущего рассказ от первого лица и этим неявно символизирующего в сюжетах свою личную и драматическую «психо-логику». Это побуждает к поиску в истории мировой литературы Нового Времени ее возможных предшественников, которые могли бы по контрасту высветить исторические, социальные и культурные факторы толстовского духовного поворота.
Рассуждения Позднышева весьма близки к монологу Оргона в 1-м акте мольеровского «Тартюфа», обращенному к шурину Клеанту и якобы основанному на внушениях Тартюфа о том, « Что мир является сплошной навозной кучей …» [Мольер 1985–1987, II, 26]. Отсюда Оргон заключает: « Пускай теперь умрут и мать моя, и дети, /Пускай похороню и брата, и жену, / Уж я, поверьте мне, и глазом не моргну …» [Мольер 1985–1987, II, 26].
Мольер привлекал Толстого с молодости. Виденные им в Париже в 1857 г. постановки «Смешных жеманниц» и «Скупого» отчасти повлияли на жанровую форму антинигилистической комедии «Зараженное семейство» [Полякова 1978], а «Мещанин во дворянстве» – на замысел так и не написанной комедии «Дядюшкино благословение» (и, возможно, на создание образа Наполеона в «Войне и мире» [Строганов 2020]). Свое художественное «сочувствие» Мольеру Толстой подытожит в трактате «Что такое искусство?» (1884–1886), где заявит, что « Мольер едва ли не самый всенародный… художник нового искусства » [Толстой 1978–1985, XV, 178], выступив по мнению критика, « последним апологетом Мольера в России на излете XIX века » [Дунаева 2018, 255]. Но рассмотрение антисемейной идеологии позднего Толстого в мольеровском «зеркале» выглядит особенно плодотворным потому, что духовный путь Оргона также суммирует (хотя и в «негативе») брачный сюжет Мольера.
Как известно, гневная реакция клерикалов на первую, 3-актную версию «Тартюфа» (1664) вынудила Мольера превратить заглавного героя из священника в обычного проходимца, подыгрывающего «помешательству» жертвы, подобно учителям Журдена в « Мещанине во дворянстве » (1670), Триссотену – фавориту Филоминты в « Ученых женщинах » (1672), врачам Аргана в « Мнимом больном » (1673) и др. (Об идейном и собственно театральном контексте эволюции «Тартюфа» см. монографию McBride [McBride 1999], а также статью Chalmin [Chalmin 2009]). Это превратило пьесу из социальной сатиры на церковь и ее претензии на моральный диктат в обществе в психологическую комедию. Главным носителем проблемы в пьесе стал Оргон, последовательно отдающий Тартюфу власть над домочадцами и собою. Тому же остается только соответствовать образу, в котором Оргон хочет его видеть (cм.: [Dandrey 2017, 219–220]; ср.: [Bourqui]).
По точной оценке критика [Blanc], Тартюф является « продолжающимся творением Оргона », воплотившего в отношении к Тартюфу свою душевную эволюцию. Именно эта движущаяся рефлексия, сделавшая Оргона реалистическим характером, позволила Мольеру суммировать в нем коллизию своей зрелой комедии: второго либо позднего брака буржуа средних лет с молодой девушкой. Сквозной характер этой коллизии удостоверяется тем, что в Оргоне и его собратьях по судьбе (которых Мольер играл сам) он последовательно обобщал опыт своего романа и брака с юной Армандой Бежар, любовь к которой постоянно боролась в нем с боязнью собственной старости и ее измены. В Сганареле, Жорже Дандене, Арнольфе и т. п. Мольер вышучивал «негатив» своего любовного переживания (см. подробнее: [Бордонов 1983, 111]), то есть – свою брачную «психо-логику». Поэтому их поведение и его оглашаемые мотивы позволяют прояснить психологический путь Оргона к почти «позднышевской» идее, по слову исследователя – « развязать узлы бессознательного » [Pensom 2004, 416–417].
Оргон, который, по обоснованному предположению, весело провел свою молодость в первом браке (см.: [Разумовская 2003, 64], очевидно, желает вернуть ее вторым с молодой женщиной. Это предполагает уверенность либо уверение других (и себя с их помощью) в своих супружеских силах. Такую логику раскрывает Сганарель в « Браке поневоле » (1664). По образцу Панур-га в романе Рабле он опрашивает соседа Жеронимо, философов и цыганок о резонах неравного брака, – будучи тем самым не уверен в этих резонах, а значит – в себе. Но соседа, напоминающего ему о его пятидесяти двух годах, он уверяет, что не помнит о своем возрасте, поскольку не чувствует его:
...Кому? Мне? Быть того не может... Найдете ли вы тридцатилетнего мужчину, который на вид был бы свежее и бодрее меня?.. //.Иу кого еще вы найдете такой здоровый желудок, как у меня? (Кашляет.) Кха-кха-кха! Ну-с? Что вы на это скажете ? [Мольер 1985–1987, I, 513].
Тут же, однако, оказывается, что о своем возрасте и сопутствующих ему немощах Сганарель прекрасно помнит, но хочет забыть, уверив в своем здоровье собеседника: «Разве по мне заметно, что я не могу передвигаться иначе как в каретах или же в портшезах?.. » [Мольер 1985-1987, I, 513].
В «Скупом» (1668) такое самоуверение чужими льстивыми устами демонстрирует старик Гарпагон. Поверив своднице Фрозине, что « Молодость. в (нем) играет », а 60 лет - « ..Самая цветущая пора для мужчины... », он верит и в то, что приметы старости - не недостатки, а достоинства: « Одышка вам к лицу, а кашляете вы даже очень мило ». Отсюда для него само собой разумеется, что его молодой невесте «... подавай шестидесятилетних. », и « Очки - украшение мужскому носу. », - что он и резюмирует как плод собственных рассуждений: «... Вот умница!.. И то сказать, в молодых-то мало толку.//.Уму непостижимо, за что их женщины так любят!.. » [Мольер 1985-1987, Ш, 70, 73].
В своей последней комедии «Мнимый больной» Мольер, предчувствуя скорый неизбежный уход, доводит собственное желание прожить во втором браке новую жизнь до комического абсурда. Женившись на молодой Белине, Арган парадоксально стремится не остановить, а приблизить свою старческую немощь, чтобы превратить жену в няньку (вторую мать), а себя – в мнимо больного ребёнка. То есть – начать вторую жизнь с младенчества и остаться в нем навсегда. Белина, ожидая скорой кончины своего благоверного, но, потакая его медицинскому помешательству, разоблачается такой же инсценировкой, как и Тартюф: Арган притворяется умершим, а она произносит над ним, по оценке служанки Туанетты, « чудное надгробное слово! »:
. Человек. неопрятный, противный, вечно возившийся с. клистирами. постоянно сморкавшийся, кашлявший, плевавший. глупый, надоедливый, ворчливый. день и ночь ругавший служанок и лакеев!.. [Мольер 1985-1987, III, 613].
По сути, Белина озвучивает шутливую самооценку Мольера, но в Аргане как самостоятельной фигуре все это рождено не старостью, а воображением ее с целью навсегда вернуться в детство.
Женившись на молодой Эльмире, Оргон странным образом предпочитает церковь ее обществу, а равно театру, клубу или трактиру. Подоплеку этого раскрывает мольеровский психологизм, который можно определить пушкинской формулировкой: «правДа чувствований в предлагаемых обстоятельствах». Эльмира - почти ровесница детей Оргона от первого брака (Дамиса и Марианны), которые не сегодня – завтра выйдут из его власти. В их зеркале власть над молодой женой (как обладание ею) предстает ему такой же небессрочной, как и власть подчинения – над детьми. В их зеркале молодость и красота Эльмиры превращаются для Оргона в знак угрозы и будущей вины.
Эти угрозы сбываются в том же «Браке поневоле». Жеронимо предупреждает Сганареля, что в силу его возраста молодая жена наверняка заведет молодого любовника и неизбежно захочет скорейшей смерти мужа, которую по возможности попытается ускорить. Сганарель начинает догадываться об этом, когда его невеста, Доримена, объявляет Сганарелю о планах наряжаться за его счёт. Это рождает в нем подозрения в ее корыстных мотивах брака, а отсюда – в будущей неверности (подспудно заставляя его вспомнить о своем возрасте). Подтверждает Сганарелю эти предчувствия подслушанный им разговор Доримены с влюбленным в нее Ликастом: она уверена, что Сганарель не протянет и полугода, после чего в качестве молодой богатой вдовы она заживет с дружком припеваючи.
В том же самом плуты Сбригани и Нерина успешно уверяют господина де Пур-соньяка в одноименной комедии (1669). Помогая юной парижанке, Жюли, избавится от Пурсоньяка как от нежеланного жениха – немолодого, но богатого провинциала, которого ей навязывают родители, они формально дискредитируют будущую невесту в его глазах: «Сказать, что эта девушка ведет себя недостойно... слишком сильно. Слова “легкомысленная” недостаточно. “Прожженная кокетка” точнее всего. » [Мольер 1985–1987, III, 146]. Но, по сути, они раскрывают ему ту же неизбежную участь рогоносца как нежеланного и старого мужа. Ответ Пурсоньяка: «Слуга покорный, я. не питаю пристрастия к подобным] головным уборам» [Мольер 19851987, III, 147], продиктован в этом контексте не слепой верой лгунам, а пробужденным ими предчувствием. Точно так же нанятые мошенниками доктора «диагностируют» у Пурсоньяка мнимые, а на деле – грядущие болезни, которые неизбежно принесет ему старость, а ускорит «покупной» брак (см. подробнее: [Иваницкий 2004, 102–104]).
Авторитетным средством увековечения мужней власти над молодой женой являлась «домостроевская» мораль, освящаемая церковью, – что, очевидно? и привело в нее Оргона. С помощью такой морали герои довлеющих друг другу «Урока мужьям» (1661) и «Урока жёнам» (1662), соответственно, Сганарель и Арнольф (в которых Мольер превратил «Братьев» Теренция, по-разному воспитывающих своих сыновей – см.: [Андреев 2016, 206]), стремятся вырастить из своих воспитанниц, Изабеллы и Агнесы, «идеально-невинных» жён. Воспитывая их в изоляции от соблазнов светской культуры (По слову Арнольфа, «Жену не многому мне надо обучить: /Всегда любить меня, молиться, прясть и шить » [Мольер 1985–1987, I, 408], то есть сохраняя вечными детьми, оба надеются обезопасить себя от их неверности.
«Домостроевским» диктаторам противостоят разумные наставники: Арист, позволяющий своей воспитаннице, сестре Изабеллы Леоноре, свет- скую жизнь и кокетство, – и друг Арнольфа Кризальд. Жизнь подтверждает их правоту. Обе неверно воспитуемые девушки прозревают и в итоге соединяются с достойными их избранниками.
В фарсовом виде стратегию антигероев «Уроке мужьям» и «…жёнам» предваряет и проявляет « Ревность Барбулье » (1653) к жене, которую он сам и толкнул к светским увеселениям и адюльтерам своей тюремно-домостроевской деспотией. Знаменательно, однако, что Сганарель, беззаветно веря в свою методу (« Плод воспитания лишь мудрый пожинает », [Мольер 1985-1987, I, 335], неведомо для себя выступает посредником в любовных делах Изабеллы. В то же время Арнольф, выведывая у возлюбленного Агнесы Ораса их намерения и тщетно пытаясь противостоять им, так и не отваживается раскрыть Орасу себя. Логично предположить, что останавливает Арнольфа сознание психологической ущербности его брачного плана.
То, как он в качестве неуязвимого для насмешек холостяка, по словам Кризальда, «... столько раз мужей несчастных укорял <...> / И едкий язычок над ними изощрял <.> » [Мольер 1985-1987, I, 407], обнаруживает скрытую гордыню своей мужской силой, рождающую столь же великий страх ее уязвления: неверности жены и ее огласки. Агнеса для Арнольфа – не предмет страсти, а фетиш его мужской неуязвимости. Поэтому о браке он говорит ей как наставница в монастыре, где Агнеса воспитывалась, представляя возможных соблазнителей исчадиями ада (См. об этом: [Фриче 1913, 53–54; Sourdillon 2006, 57]). Эти скрытые мотивы в «Уроке мужьям» служанка Леоноры Лизетта обнажает в Сганареле: «Должно быть, наша честь уж очень уязвима, / Коль взаперти её держать необходимо » [Мольер 1985-1987, I, 317].
Между тем в описанных выше комедиях Мольера «рога» мужей удостоверяли их старость и приходящую с нею немощь. Поэтому, гарантируя себя от измен жены ее вечной детской невинностью, Арнольф остаётся в собственных глазах вечно недоступным и для смерти. Но явно страшится того, что, раскрыв Орасу себя, он невольно раскроет ему психологическую «кухню» своего будущего брака.
Оргон уже к поднятию занавеса явно остыл к тем, кем хотел управлять с помощью Тартюфа. По возвращении из деревни он равнодушен к рассказу Дорины о болезни жены и интересуется лишь здоровьем и без того здравствующего Тартюфа. В связи с этим важно иметь в виду, что в церковь Оргон начинает ходить, еще не зная, что встретит там Тартюфа, но – в ожидании «своего» (!) Тартюфа, поскольку находится « на стадии перерождения » [Разумовская 2003, 64-65]. Именно поэтому он не видит противоречия между «набожностью» Тартюфа и его услужливостью лично ему. Обращалось внимание, что, сделав Тартюфа судьей, учителем, властителем и почти Богом, Оргон воплотил в нем «идеального себя», сделав этот идеал предметом культа [Павлова 2008, 33–34; Blanc] (ср.: [Комарова 2021, 128–129]). Содержанием же идеала стал фактический отказ от семейной любви и переуступка Эльмиры мнимому «аскету» Тартюфу, который, как режиссер происходящего, открывает Эльмире плоды своих трудов: «Как сам он пожелал, мы видимся вдвоем, / Он этим горд весьма, спесь взор его туманит ...» [Мольер 1985-1987, II, 80] (курсив наш - А.И., К.Н. ).
Такой душевный итог Оргона высвечивает его мать и главный «двойник» в комедии – мадам Пернель. Подобно Оргону, она не просто влюблена в Тартюфа, но видит в нем высшее воплощение ее собственной натуры: объявляя Кле- анту, что «Правдивость не порок», она видит именно ее причиной нелюбви домашних к Тартюфу, который «...говорит в глаза всю правду без прикрас» [Мольер 1985–1987, II, 17, 19]. Прежде всего мадам Пернель, которая, по словам служанки Дорины, «до тыщи лет все будет молода» [Мольер 1985-1987, II, 22], отражает сыновнее желание вторым браком обмануть время (неслучайно мать, к которой старость уже пришла, а смерть приблизилась, верит Тартюфу еще больше и дольше, чем Оргон, – даже когда тот разоблачает Тартюфа перед нею). Казалось бы, именно нежелание стареть рождают ее зависть к молодым домочадцам. Прежде всего к молодой и привлекательной невестке Эльмире, в отношении которой она озвучивает возможные у ее сына подозрения в ветрености: «Коль жены думают лишь о своих мужьях, / Им вовсе ни к чему рядиться в пух и прах» [Мольер 1985-1987, II, 17]. Однако, преклоняясь, подобно Оргону, перед мнимой «аскезой» Тартюфа, она, как и сын, именно в ней видит орудие и смысл принуждения младших домочадцев «.жить, как учит он, по правилам святым» [Мольер 1985-1987, II, 18]. То есть - стремится уже не вернуть свою молодость, а «состарить» молодых. Именно это ее желание (рожденное либо укрепленное уже появлением Тартюфа в доме!) проявляет упоминаемая той же Дориной постаревшая светская львица Оранта, которая в молодости - «.Привержена была... к мирским утехам.». Но когда с годами «. Ушли поклонники, и свет забыл о ней...», - «сделалась поборницей морали. // . Злит этих праведниц: зачем доступны нам / Те радости, что им уже не по зубам?» [Мольер 1985-1987, II, 20-21]. Стоит отметить, что «мораль» Оранты фактически развивает Позднышев, гневающийся на индустрию «украшения женщин» «.Огромная доля [фабрик] работают бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки … только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену… держат 0,9 рода человеческого» [Толстой 1978–1985, XII, 142].
Этого же Оргон желает Марианне, - объясняя дочери, что Тартюф « Ниспослан. [ей] для умерщвленья плоти » [Мольер 1985-1987, II, 72]. А затем, заставляя своего кумира, который ему « Милей. / Чем сын, жена и все » [Мольер 1985–1987, II, 66] назло всем бывать в обществе желанной тому Эльмиры, «умерщвляет» уже свою плоть. В мнимой аскезе Тартюфа Оргон влюбляется в собственную бренность и грядущую старость, которую изначально с помощью той же религии желал остановить. Тем самым определение мира как «навозной кучи» оказывается для него не причиной, а поводом отторжения от семьи, ставшей помехой в поклонении самому себе.
Таким образом, душевная эволюция Оргона, «раскрываемая» его матерью и родственными ему героями, задана желанием героя прожить во втором браке вторую жизнь. Переживание его угроз обращает Оргона к религии (олицетворенной в Тартюфе), которая трижды меняет для него свои задачи: увековечения власти над молодой женой и взрослыми детьми; лишения их молодости; освящения собственной старости, в которой уже нет места близким и людям вообще.
Начинается же комедия с того, что мадам Пернель инсценирует свой отъезд из дома, где к ней «почтенья нет ни в ком» [Мольер 1985-1987, II, 16]. Схожий, но уже реальный уход из дома затем начнет Оргон. Лишая наследства сына и передавая дом Тартюфу, он меняется с ним местами сначала в доме, а в перспективе и в жизни, программируя собственное странничество. Такое отторжение себя от мира (включая любимую женщину) и бегство «в пустыню» совершает Альцест, герой «Мизантропа» (1666). Автобиографизм Альцеста, продолжающего ряд «самопародий» Мольера, отмечался уже в XIX в. (См., напр.: Donne). Протагонист автора и друг Альцеста Филинт прямо соотносит его максимализм в отношении возлюбленной, Селимены, с «домостроем» Сга-нареля из «Урока мужьям»; себя же - с Аристом: «…Как будто выбрали двух братьев мы в пример, / Что в “Школе для мужей” изобразил Мольер» [Мольер 1985–1987, II, 196].
Однако, в отличие от «родственных» Мольеру стареющих буржуа, Аль-цест – молодой аристократ, приверженный это су дворянского прямодушия времен Генриха IV и Людовика XIII [Mesnard 1972, 863–889] (ср.: [Павлова 2022, 105–108, 114, 116]). Это делает его имманентным Мольеру характером, страдающим от внутреннего противоречия. Негодуя на неискреннюю « льстивость » света, он любит жизнелюбивую кокетку Селимену, воплощающую « Всё, что нас при дворе и в свете окружает » [Мольер 1985–1987, II, 196]. Филинт в разговоре с ее кузиной Элиантой недоумевает, – «… С такой натурой… / … Как в вашу именно влюбился он кузину »[Мольер 1985–1987, II, 240]. Сам Альцест, признаваясь Селимене: « Я за мои грехи люблю вас » [Мольер 1985–1987, II, 213], по сути, именно эту любовь видит своим главным « грехом ». И Селимена ощущает, что в отношении Альцеста к ней симпатия переплетается с раздражением на нее и на себя: «… Упреки, ссоры, брань – вот пылкий ваш экстаз. / Подобную любовь я вижу в первый раз » [Мольер 1985–1987, II, 214].
В любви к Селимене Альцест видит узел своей душевной зависимости от отторгаемого им мира. И, чтобы изжить ее, провоцирует расставание с миром ради расставания с возлюбленной. Сначала игнорирует судебную тяжбу: « С удовольствием я проиграю дело… //… Вот когда судить смогу я смело, / Довольно ль низости и злобы у людей …» [Мольер 1985–1987, II, 200]. (См. подробнее: [Donne]; ср.: [Force 1994, 101–109]). А проиграв и объявив об уходе в « пустыню », предлагает Селимене бежать вместе с ним, – по сути, провоцируя ее отказ. Возможно, это делает поведение Альцеста ключом к пониманию социальных, культурных и исторических причин переосмысления Толстым «негативной» психо-логики мольеровского героя, которая в итоге станет для него безальтернативной и благой.