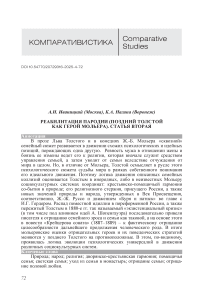Реабилитация пародии (поздний Толстой как герой Мольера). Статья вторая
Автор: А.И. Иваницкий, К.А. Нагина
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
В прозе Льва Толстого и в комедиях Ж.-Б. Мольера «сквозной» семейный сюжет развивается в движении схожих психологических и идейных позиций, порождающих одна другую. Ревность мужа в отношении жены и боязнь ее измены ведет его к религии, которая вначале служит средством управления семьей, а затем уводит от семьи вследствие отчуждения от мира в целом. Но, в отличие от Мольера, Толстой осмысляет в русле этого психологического сюжета судьбы мира в рамках собственного понимания его идеального движения. Поэтому логика движения описанных семейных коллизий оценивается Толстым в инородных, либо в неизвестных Мольеру социокультурных системах координат: крестьянско-помещичьей гармонии события в природе; его религиозного стержня, присущего России, а также новых значений природы и народа, утвержденных в Век Просвещения, соответственно, Ж.-Ж. Руссо и движением «Буря и натиск» во главе с И.Г. Гердером. Распад поместной идиллии в пореформенной России, а также пережитый Толстым в 1880-е гг. так называемый «экзистенциальный кризис» (в том числе под влиянием идей А. Шопенгауэра) последовательно привели писателя к отрицанию семейного эроса и семьи как таковой, а на основе этого в повести «Крейцерова соната» (1887–1889) – к фактическому отрицанию целесообразности дальнейшего продолжения человеческого рода. В итоге мольеровские оценки отрицательных героев и их поведенческих стратегий меняются у позднего Толстого на противоположные. В этом, по-видимому, проявилась логика эволюции психологических универсалий в движении различных социокультурных систем.
Природа, народ, религия, дворянско-крестьянская гармония, помещичья семья, светская семья, уход из семьи в монастырь, отрицание семьи, отрицание половой любви
Короткий адрес: https://sciup.org/149150081
IDR: 149150081 | DOI: 10.54770/20729316-2025-4-72
Текст научной статьи Реабилитация пародии (поздний Толстой как герой Мольера). Статья вторая
Nature; folk; religion; noble-peasant harmony; the landowner’s family; the secular family; leaving the family for a monastery; denial of family; denial of sexual love.
Важно иметь в виду, что в брачном сюжете Мольер обобщал свой опыт как опыт буржуа. Кроме того, сборы труппы зависели в первую очередь не от королевской пенсии (поступающей нерегулярно) и не от аристократических лож, зачастую абонируемых в кредит, – а от «демократического» партера [см.: Соловьев 1923, 280, 301; ср.: Быстрянский 1922, 37–55; Бордонов 1983, 177– 178, 270–271]). В то же время Толстой смотрит на семью глазами дворянина-помещика, основные составляющие мировидения которого – земля ( природа ) и народ – были переосмыслены в XVIII – начале XIX в., соответственно, Руссо, немецкими штюрмерами и романтиками. Уже в 1850-е гг. Толстой видит идеал « в природе, которая постоянно представляет для нас… правду, красоту и добро, которых мы ищем и желаем » [Толстой 1936, 322]. Отталкиваясь от философских позиций своих петербургских знакомцев – Боткина, Анненкова и др, он считает, что « в природе человек черпает… совесть и добрые чувства в целом ...» [См.: Орвин 2006, 61–91]. Именно руссоистское понимание природы как главного духовного измерения жизни задает толстовское понимание смерти в его ранней и зрелой малой прозе.
1. Дворянин, народ и природа
Логической точкой отсчета в этом плане выглядит повесть « Холстомер » (начатая в 1863-м и доработанная в 1886 г.), где природа (неживая и живая – представляемая лошадью) в руссоистском ключе выступает самодостаточной. Лошади, от лица которых и говорит заглавный герой, обладают всеми личностными измерениями людей, но при этом их рождение, жизнь и смерть суть естественные составляющие природного круговорота (труп убитого Холстомера становится пищей волчьей семьи). Люди же стали инородны природе, «отпали» от нее, поскольку «…стремятся… называть как можно больше вещей своими» [Толстой 1978–1985, XII, 24–25].
Вместе с тем неестественность жизни и смерти людей возрастают по мере их удаления от природы и народа (принадлежащего и прилежащего ей). Это отражает смерть бывшего хозяина и губителя Холстомера князя Серпуховского – такая же бессмысленная, как и его жизнь. В свою очередь, ступенью возвышения Холстомера над «рутиной» его собственного мира (табуна) оказывается оскопление (о семантике клички героя см.: [Россош 2006]), а затем – утрата «рысистости» по вине князя. Это как бы отторгает коня от его собственной природы и в то же время привязывает к природе (земле) в целом в качестве смиренного и ничем не смущаемого труженика (см. подробнее: [Нагина 2018, 86–97]). Именно такое духовное состояние становится для коня кануном смерти как освобождения: «… Облегчилась вся тяжесть жизни » [Толстой 1978–1985, XII, 40] – и возвращения в природу.
Рассказ «Три смерти» (1859) более отчетливо выстраивает духовную иерархию жизни и умирания в собственно человеческом мире. «Неестественно» умирает барыня – помещица. Вначале она не осознает неизбежности своей смерти от чахотки (надеясь выздороветь за границей) и этим принуждает близких ко лжи. А уже смирившись с уходом, продолжает видеть его несчастным следствием невыезда в Италию, – не постигая в силу этого естественности и, значит, высоты смерти. В то же время ее работник Федор мирно ожидает скорого конца от той же чахотки как совершенно естественного и обещает семье вскоре «опростать» место на печке (что и совершается ночью во время его сна незаметно для других). Вершиной оказывается «смерть» дерева, срубленного на могильный крест Федору и немедленно замещаемого другими деревьями, которые «… еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями » [Толстой 1979–1985, III, 71]. Жизнь оказывается признаком неделимой и потому нерушимой природы. И в ней смерть получает те «лирико-литургические» значения, которые она постепенно обретала в сознании Оргона.
В повести 1856 г. «Метель» (основанной на эпизоде возвращения Толстого с Кавказа в Ясную Поляну) народ предстает частью природы как экзистенции, в которой противоположность жизни и смерти фиктивна. Народ фактически рождается природой и ведет к ней героя – в конечном счете через смерть. Степная метель превращает путешествие рассказчика в беспутное движение, в котором он во сне погружается в детство, вожатые же превращаются в проводников в это детство, – а затем в героев сновидения (сигналом такого погружения вглубь бытия становится смена прошедшего времени повествования на настоящее накануне, во время сна и в какое-то время по пробуждении от него). Показательно, что метель, трансформирующая, в частности, роли ямщиков (в том числе в сне героя), зачастую играет у Толстого сюжетообразующую роль (см.: [Нагина 2012, 152–187]). Причина, очевидно, в том, что в метельном пространстве народ проявляет свою фундаментальную принадлежность природе, инстинктивно угадывая свое место в ее порядке и следуя ему.
Кульминацией сна о детстве становится поднятие из пруда утопленника: смерть неявно продолжает погружение в детство. Это подтверждает второй сон, в котором смерть как утопление заменяется замерзанием в снежной пустыне, ведущим в промежуточный «подснежный» мир. В нем герои детства рассказчика парадоксально превращается в желанных ему душегубов-грабителей, поскольку только по ту сторону земной жизни ему может открыться ее экзистенциальный смысл: «… мне… хочется опять видеть белый коридор… и целовать руку старичка » [Толстой 1979–1985, II, 233]. По точному определению исследователя, в идеале «… природа заставляет человека выйти за пределы своего состояния… или переводит в иное измерение » [Сливицкая 2009, 110–111]. Однако в последний момент страх смерти пересиливает в герое стремление к ней; он просыпается, беспутное движение снова становится путешествием, цель и направление которого остается неизвестными читателю, поскольку не важны. Возникает заколдованный круг: смысл народноприродной экзистенции и своей земной жизни можно узнать только через смерть; а без такого узнавания она свой смысл теряет.
2. Миссия помещичьей семьи: реабилитация Арнульфа и его «школы жен»
Выход из этого тупика открывает вторая группа текстов, в которых рычагом воссоединения дворянина с народно-природным целым выступает семья .
В русском православном контексте трудовое / крестьянское единение народа с природой получило духовно-нравственное измерение. Народнорелигиозное восприятие земли наделило труд на ней отчасти богослужебными значениями, - что и зафиксировала этимология слова «крестьянин». Во многом это стало идейной платформой крестьянской общины – зачастую делившей все добытое поровну и получавшей в силу этого монастырский подтекст. Помещик, патрон крестьянской общины, становился носителем не столько имущественных прав в отношении ее, сколько духовных, воспитательных обязанностей. О значимости этих отношений для Толстого красноречиво свидетельствует его глубокий интерес к книге Гоголя « Выбранные места из переписки с друзьями » (1847, – хотя глава « Что такое помещик? » вызвала у него существенные возражения).
Это во многом задает толстовское понимание смысла и миссии помещичьей семьи как прижизненного обретения смысла жизни в романе « Семейное счастие » (1859). Природа вокруг героини и ее опекуна, а затем мужа, Сергея Михайлыча, образует три своего рода «концентрических круга». Первый, собственно «дворянский», образует сад, проявляющий в повести свои архетипические значения земного Рая – локуса любовных радостей и в то же время духовной чистоты (см. подробнее: [Нагина 2012, 231–253]).
Второй круг очерчивает дворянское имение как область народного / трудового приобщения природе. Оно рождает «роевую» народную мораль, становящуюся содержанием веры дворянской четы: « Я…молилась, и плакала, и всех на свете и себя так страстно, горячо любила в эту минуту …» [Толстой 1979–1985, III, 98]. Отсюда социальный патронаж над крестьянским трудом последовательно приобщает дворян к народу и природе. Впоследствии в
«Анне Карениной» эти принципы будут развернуты в изображении поместья и поместной жизни Левина и Китти, где « “обязанности родственнохозяйственные” будут осознаны как “религиозные”, поскольку: “…люди братья – это сыновья одного Отца” и отсюда – “работники… одного… поля” » [Гродецкая 2000, 194, 196].
В «Войне и мире» «роевое» народное начало как источник «мысли семейной» (Пьера Безухова и Наташи Ростовой, Николая Ростова и княжны Марьи Болконской) и мост от нее к природе получит национально-эпическое измерение.
Третий круг – природа в целом – проявляет себя в смене времен года как циклически сменяющих друг друга периодов человеческого самоощущения и отсюда – поведения. Первый деревенский этап упоения супружеством сменяется для героини пресыщением зимней деревней, в которой она чувствует себя запертой так же, как после смерти матери. Это влечет ее к переезду в петербургский свет, грозящий ей, однако, телесными соблазнами и супружеской изменой во время «невольного» свидания с итальянским маркизом. Наконец, четвертый этап – возвращение супругов в качестве родителей – утверждает словами Сергей Михайлыча новый и окончательный смысл их супружеской любви: « Нам нечего искать и волноваться. Мы уж нашли, и на нашу долю выпало довольно счастия. Теперь нам… нужно… давать дорогу вот кому » [Толстой 1979–1985, III, 98]. Таким образом, природа задает диалектику человеческого чувствования и отсюда – жизни в целом. Если в «Холстомере» и «Трех смертях» дворянин фактически противостоял природе и народу, то помещичья семья становится звеном их соединения.
В этом контексте показательно, что и до брака, и в браке Сергей Михайлыч для любящей его героини – духовный опекун, заменяющий ей умершего отца. В их « жизни для другого » любовная составляющая замыкается после рождения детей на совместном их воспитании – довлеющем духовному руководству крестьянами.
Отсюда предметом ревности мужа (воспитателя и наставника жены) становится не столько конкретный соперник, сколько иной, «светский» образ жизни. Сергей Михайлыч сочетает признаки двух противоположных опекунов из «Школы жен» и «Школы мужей»: Ариста и Арнульфа. С одной стороны, пробуждая в неиспорченный подопечной искренние чувства, он в дальнейшем не препятствует светским удовольствиям и успехам молодой жены. А с другой – жестко ревнует ее к свету; в качестве морального мэтра стремится внушить ей отвращение к свету в пользу семейной жизни в деревне и в итоге во время спора о дате возвращения из Петербурга в деревню ставит перед выбором: свет или семья. Впоследствии эти смыслы супружеской любви и верности утвердятся в «Анне Карениной», где брак заглавной героини станет почти внеэротическим сожительством с мужем гораздо старше ее, – который после разрыва не даст развода Анне, не собираясь ни жить с ней, ни делить сына. Каренин в браке, по сути, оценивает себя как еще не «прозревший» Оргон – Тартюфа, которого предлагает дочери в мужья « для умерщвленья плоти ».
Такая подспудно религиозная основа «помещичьей» семьи и вытекающая отсюда «наставническая» миссия неравного брака фактически реабилитируют «домостроевский» принцип «школы жен», который Арнульф предлагает Агнесе, – которая теперь добровольного подчиняется ему в рус- ле поместной гармонии. Утверждает правильность этой «школы…» Левин, который в русле своего «домостроительства» изгоняет потенциального ухажера Китти Васеньку Весловского – сюжетного аналога искомого Агнесой жениха.
3. «Светская» семья Толстого – развенчание мольеровской семьи «без крайностей»
В свою очередь мольеровский семейный «позитив», где муж разрешает жене светские удовольствия, предстает у Толстого оболочкой тщеславия и похоти. Потенциал такого движения задает описанная выше «эротическая угроза» героине «Семейного счастия» во время ее петербургской и заграничной жизни. Негативом семьи Левиных становится «светская» помещичья семья Анны и Вронского, рожденная их чувственной любовью. Подобно Аристу, Вронский позволяет Анне кокетство с гостями, и та становится в итоге рабыней эроса, ведущего ее к безумию и гибели. Вторым «пороком» светской помещичьей семьи становится в той же «Анне Карениной» смена цели и смысла помещичьего хозяйствования. Для Вронского, внедрившего у себя в имении последние европейские новинки, оно, в отличие от Левина, не ведет к единению с крестьянами, а с ними – с растворенным в природе Богом, но основано только на коммерческих выгодах. Это развернуто проявляется в «Анне Карениной» противопоставлением Воздвиженского, где Вронский живет с Анной, и принадлежащего Левину Покровского, « где все сопряжено естественным образом » [см.: Леннквист 2010, 120].
Эти порождающих друг друга пороки, обессмысливающие помещичью жизнь и семью (коммерческое хозяйствование ради жизни для себя, включая эрос) объединяет « Дьявол » (начат 1889). Молодой помещик Иртенев без устали и успешно трудится для освобождения поместья от отцовских долгов, при этом стараясь устроить холостую жизнь на «светский» лад и завершить ее светским браком. К катастрофе его ведет «демоническая» похоть в отношении крестьянки Степаниды (в первом варианте финала он убивает себя; во втором, 1890 г., – свою любовницу и возвращается из острога « невменяемым алкоголиком »). «Светский» же брак Иртенева с Лизой Анненской оказывается неспособен ни заменить ему «дьявольскую» похоть, ни избавить от нее.
4. Уход
Такая помещичья семья, уже не связанная с народом и природой, программирует уход ее главы из «малой» природы поместья в большой мир сначала народа, а затем природы как таковой (монашескую «пустынь», наследующую «пустыне» мизантропа Альцеста).
Начало этой линии кладет повесть «Записки сумасшедшего» (начата в 1884 г., но не закончены). Повесть развивает мотив «Метели»: в ходе четырех путешествий (которые теперь уже «расшифровывают» свои цели – покупку имения в Пензенской губернии, «процесс» в Москве, охоту и снова покупку имения) герой-рассказчик также ощущает более глубокий уровень бытия. Но не стремится узнать его суть, а испытывает панический страх смерти. Причина – все та же смена цели хозяйствования на коммерческую, отчуждающая героя от природы и народа. Однако в ходе последнего углубления в природу он осознает греховность наживы «на нищете и горе людей» – его «братьев, сынов Отца» [Толстой 1978–1985, XII, 53], то есть извращение своей помещичьей жизни. Народная составляющая экзистенции жизни проявляет, таким образом, свое социально-нравственное (религиозное) измерение; а жизнь героя, в отличие от рассказчика «Метели», приоткрывает ему свой смысл еще до ее исчерпания. Но выхолощенная коммерцией семья потеряна им бесповоротно: «Я приехал домой и, когда стал рассказывать жене о выгодах именья, вдруг устыдился <…> Жена сердилась, ругала меня...» [Толстой 1978–1985, XII, 52–53]. «Мысль семейная» перестает быть стержнем «мысли народной», пролагая герою путь ухода. Сигналом выступает приступ клаустрофобии, испытанный им в Арзамасской гостинице в первом, «купеческом» путешествии (в реальности перенесенный Толстым осенью 1869 г. и вошедшей в историю как «арзамасский ужас» (см.: [Орвин 2006, 173]).
В «Отце Сергии» (1890–1898) второй мотивацией ухода «светского» дворянина в природу сначала – монашеского, а потом – отшельнического становится обуздание либидо и отсюда – самолюбия, делающих заведомо невозможной правильную помещичью семью и готовящих к семье светской. Молодой блестящий военный, граф Степан Касацкий отказывается от невесты Мэри и уходит в монастырь, узнав, что она была любовницей императора Николая I. В каком-то смысле своим путем он соединяет психо-логику Оргона и Альцеста. Как и для Оргона, религия меняет для Касацкого свое исходное содержание на противоположное. Он уходит в монастырь из гордыни, представляя воздержание от либидо иноформой его максимального проявления (таким путем он уравнивается со своим счастливым соперником – царем). Но затем монашество и старчество превращаются для него в средство обуздания гордыни, а затем (по аналогии с Альцестом, только в неизмеримо более радикальной форме!) и либидо, лежащего в его основе. Для защиты от соблазна «разводной жены – аналога Степаниды, в которой Сергий также опознает «дьявола» [Толстой 1979–1985, II, 355, 358], он отрубает себе палец, символически замещающий детородный орган.
В конечном итоге «старческое» служение людям становится для Сергия формой отшельнического служения Богу, которое, по сути, означает одухотворенное со-бытие природе. Как видим, «светский» негатив дворянской семьи объективно выводит ее главу (подобно Оргону) на путь «возвышения» и над семьей, и над миром вообще.
В качестве жизненного идеала такой путь предполагает исчерпание человеческого рода и его «окончательное» воссоединение с природой. Это проясняет оставшийся незавершенным отрывок « Посмертные записки старца Федора Кузьмича » (1905). Заглавный герой записок не просто уходит в одухотворенную природу от света и светской семьи, но сходит с вершины земной власти. Если в русской традиции предсмертное пострижение царя означало спасение души перед ее «законным» освобождением от тела, то «самовольное» исчерпание царем своего царствования знаменует исчерпание «Царствия земного»: в лице царя в монахи в символической перспективе уходит его народ. Неслучайно в «Записках…» Толстой уже открыто, как и в дневниках, религиознофилософских сочинениях и послесловии к «Крейцеровой сонате» утверждает «законность» единственного жизненного желания, « которое свойственно бы было человеку <…> и всегда исполнялось», – «приближения к смерти » [Толстой 1978–1985, XIV, 375].
5. Мир как «навозная куча» – оправдание оргоновского отказа от семьи и эроса
Как мы видим, вне поместной дворянской-крестьянской гармонии в природе городской человек становится бытийным нулем. Пореформенное замещение дворянско-крестьянской сельской гармонии городом знаменовали для Толстого грядущее исчезновение народа как рода, трудящегося на земле и живущего ею, а, следовательно, исчерпание веры. Этот сдвиг отражает повесть «Смерть Ивана Ильича» (1886). Рожденная реформами «бессмысленная» чиновно-городская жизнь обессмысливает для преданного ей заглавного героя жизнь семейную (эти истоки деградации семьи заданы уже в «Анне Карениной» бессмысленной для Толстого карьерой ее мужа). Смертельная болезнь настигает Ивана Ильича, когда он падает со стремянки, стремясь обустроить свое «окончательное» жилье как «храм» якобы состоявшейся жизни. Болезнь последовательно отчуждает его от друзей (ведущих себя «как с человеком, испускающим дурной запах»); жены (в последние три дня агонии супруга отгораживающейся от его криков «тремя дверьми») и в итоге от телесного бытия, – раскрывая ему глаза на симулятивный характер его прошлой жизни и, по мере угасания, освобождая от нее. Это раздваивает значение смерти: как жизненной рутины и освобождения от нее. Это утверждается в финале словами Ивана Ильича к самому себе: «Кончена смерть!», под которой имелась в виду вся его предыдущая жизнь. Стоит отметить, что врачи в повести видятся Толстому в повести шарлатанами, как и Мольеру. Но врачи «Господина де Пурсоньяка», диагностирующие у его мнимые, а на деле будущие болезни, фактически говорят языком Толстого, видящего болезнь Ивана Ильича суммой его жизни и потому предрешенной и смертельной.
Возвращается ситуация «Холстомера», которого Толстой дорабатывает как раз в это время: если отец Сергий вслед за оскопленным конем, отчуждается от рода, то Иван Ильич – от жизни. Природа уходит вообще, а народ превращается в эмблему правильного понимания жизни в лице Герасима.
Наконец, в «Крейцеровой сонате» духовное «обнуление» рода, переставшего быть народом, побуждает героя к устранению семьи и семейного эроса ради пресечения рода. Повесть суммирует мотивы «Дьявола» и «Смерти Ивана Ильича». Подобно Ивану Ильичу, Позднышев духовно отчуждается от жены и в то же время эротически порабощается ею, как Иртенев – Степанидой. Духовно разобщая супругов, семья в то же время делает их эротическими рабами друг друга. Глазами Оргона Позднышев смотрит на современность как исчерпание смысла рода; «дьяволом» же, противоестественно длящим его существование, Позднышев видит семейный эрос, который и приговаривает к гибели.
***
В целом толстовское переосмысление брачного сюжета Мольера проявляет эволюцию психологических универсалий в движении социокультурных систем. В прозе Толстого, как и у Мольера, «сквозной» семейный сюжет развивается в русле порождающих одна другую коллизий: ревности и боязни измены; религии – сначала как средства управления семьей, а затем как ключа ухода из семьи в силу разочарования в мире и отчуждения от него. Но, в отличие от Мольера, Толстой осмыслял в семейном сюжете судьбы мира в целом. Поэтому его мотивы оцениваются Толстым в инородных либо неизвестных Мольеру социокультурных системах координат: крестьянско-помещичьей гармонии со-бытия в природе; его религиозного стержня, присущего России, – а также новыми значениями народа и природы, утвержденными Веком Просвещения. В итоге мольеровские оценки героев и их поступков меняются у Толстого на обратные .