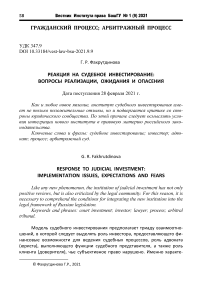Реакция на судебное инвестирование: вопросы реализации, ожидания и опасения
Автор: Фахрутдинова Гузель Ринатовна
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Гражданский процесс, арбитражный процесс
Статья в выпуске: 1 (9), 2021 года.
Бесплатный доступ
Как и любое новое явление, институт судебного инвестирования имеет не только положительные отзывы, но и подвергается критике со стороны юридического сообщества. По этой причине следует осмыслить условия интеграции нового института в правовую материю российского законодательства.
Судебное инвестирование, инвестор, адвокат, процесс, арбитражный суд
Короткий адрес: https://sciup.org/142232177
IDR: 142232177 | УДК: 347.9
Текст научной статьи Реакция на судебное инвестирование: вопросы реализации, ожидания и опасения
Модель судебного инвестирования предполагает триаду взаимоотношений, в которой следует выделять роль инвестора, предоставляющего финансовые возможности для ведения судебных процессов, роль адвоката (юриста), выполняющего функции судебного представителя, а также роль клиента (доверителя), чье субъективное право нарушено. Именно характе-
ристика нарушенного права является основой и катализатором тройственной взаимосвязи инвестора, юриста и доверителя.
Обеспокоенность по вопросу легализации нового правового института обусловлена различными причинами. В первую очередь опасения, связанные с судебным инвестированием, основаны на предположении о том, что финансирование судебных разбирательств станет причиной значительного увеличения количества судебных дел, что приведет к увеличению существенной нагрузки на судебную систему в целом. Кроме того, увеличение трафика судебных дел может негативно сказаться на качестве судебных актов, что, в свою очередь, создает риск для инвестора. Судебная система и без того сегодня крайне перегружена, заседания назначаются со значительным интервалом, и все это сказывается на общем сроке рассмотрения дела.
Следует полагать, что повышение интереса к судебным разбирательствам может спровоцировать пересмотр размера платы за обращение в суд, в связи с чем размер государственной пошлины может быть увеличен.
В настоящее время для подачи искового заявления имущественного характера по гражданскому делу в суд общей юрисдикции предельный размер госпошлины составляет 60 000 рублей, в арбитражный суд – 200 000 рублей. В зарубежной практике для подачи иска требуется уплатить пошлину, размер которой порой исчисляется миллионами рублей. Кроме того, необходимо учесть, что, к примеру, в английских судах кроме пошлины за подачу искового заявления также облагается пошлинами подача отдельных процессуальных документов в ходе судебного разбирательства, чего нет в Российской Федерации [1].
На наш взгляд, в этой ситуации целесообразно рассмотреть возможность не только судебного инвестирования, но и модель инвестирования внесудебного урегулирования спора.
В последнее время наблюдается тенденция к разрешению споров в досудебном порядке. Преимущества такой формы разрешения конфликта очевидны – укрепление деловых отношений между сторонами, что способствует продолжению продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества, исключение репутационных рисков, экономия времени и средств.
Вместе с тем субъекты малого и среднего предпринимательства часто нуждаются в квалифицированном правовом советнике, который готов выступить переговорщиком с оппонирующей стороной. Задача досудебного сопровождения в этом случае заключается в формировании выгодных и неоспоримых условий, которые стороны удостоверяют в форме соглашения. При этом досудебные переговоры помимо юридического сопровождения могут потребовать определенных затрат, включая командировки к месту ведения переговоров, расходы на оплату нотариальных услуг, затраты на при- влечение узкопрофильных специалистов. В этой ситуации востребованность взаимодействия с инвестором не исключается.
Таким образом, полагаем целесообразным развивать и популяризовать цивилизованные способы разрешения спора, в том числе на условиях внешнего инвестирования досудебных переговоров.
К проблематике судебного инвестирования относят вопросы и так называемого «обратного взыскания». Речь идет о ситуации, когда в результате проигранного дела с истца по заявлению ответчика может быть взыскана компенсация за потерю времени. Такая возможность предусмотрена ст. 99 ГК РФ. В этой ситуации возникает сложность в определении лица, которое должно будет возместить взысканную судом компенсацию. Следует ли в таком случае возлагать бремя ответственности на инвестора, который принимает не только относительные, но и абсолютные риски по делу, или на юриста, который мог неверно квалифицировать и оценить риски по делу, или на клиента, который de jure является ответственной стороной согласно прямому толкованию процессуального законодательства?
Широко обсуждаются вопросы, связанные с определением квалификации юриста, который будет заниматься судебным представительством.
Сегодня сложилась ситуация, когда фактически одинаковая юридическая помощь неопределенному кругу граждан и организаций оказывается либо адвокатами, либо предпринимателями (юристами, не имеющими статуса адвоката). В обоих случаях правовое регулирование представительства имеет значительные различия.
Существует мнение, что правом на участие в трехстороннем соглашении по финансированию судебного разбирательства должны обладать лишь адвокаты, статус которых сам по себе является показателем высокой квалификации.
С другой стороны, юридические услуги могут оказывать лица с разнообразными профессиональными треками, чья квалификация и репутация может быть подтверждена количеством успешно разрешенных дел. Например, аудиторы, таможенные брокеры и другие профильные специалисты.
Еще одной проблемой, заслуживающей внимания, является оценка риска и перспектив любого потенциального кейса, рассматриваемого как предмет судебного финансирования. На предварительном этапе юристу или группе юристов предлагается сформировать независимое заключение по делу. Для этого в том числе выполняется анализ судебной практики по аналогичным делам.
При этом по многим причинам довольно сложно сказать, что определенные казусы в судебной практике способны формировать однозначные правила применения норм права. Например, многословие, из-за которого не понятно, что в решении важно, а что не важно, на какие обстоятельства опирается вывод суда; явная недоговоренность, когда суд рассуждает в духе всеобъемлющего описания многочисленных норм, которые не содержат ключевой мысли. В связи с тем, что в судебной практике доля решений, в которых содержится четкая правовая позиция и аргументация, невелика, усложняется оценка перспективности кейса. По этой причине прогнозирование успеха дела со ссылкой на судебную практику не может служить исключительной гарантией положительного исхода.
Еще одной дискуссионной проблемой являются последствия реализации истцом права заявить отказ от иска. Российское процессуальное законодательство позволяет заявить отказ от иска не только в суде первой инстанции, но и в апелляции. Такое решение клиента (доверителя) может быть обусловлено не самыми добрыми побуждениями. К примеру, причиной для отказа от иска может стать предложение ответчика разрешить спор «за кулисами судебного заседания» на взаимовыгодных и возмездных условиях, более привлекательных по сравнению с теми, что предоставлены инвестором.
Таким образом, при реализации судебного финансирования как формы обеспечения доступности судебной защиты необходимо ответить на вопросы, вызывающие обеспокоенность в юридическом сообществе. Представляется, что тонкая правовая настройка парадигмы российской действительности должна вестись по принципу рrimum non nocere.
Список литературы Реакция на судебное инвестирование: вопросы реализации, ожидания и опасения
- Правосудие в современном мире: моногр. / под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 704 с.
- EDN: QSTIUD