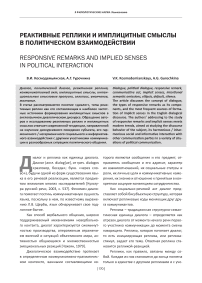Реактивные реплики и имплицитные смыслы в политическом взаимодействии
Автор: Космодемьянская Виктория Игоревна, Гурочкина Алла Георгиевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 3 (37), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются понятие «диалог», типы реактивных реплик как его составляющих и наиболее частотные источники формирования имплицитных смыслов в англоязычном диалогическом дискурсе. Обращение авторов к исследованию реактивных реплик и имплицитных смыслов отвечает современной тенденции, направленной на изучение дискурсивного поведения субъекта, его гармоничного / негармоничного социального и информативного взаимодействия с другими участниками коммуникации в разнообразных ситуациях политического общения.
Диалог, политический диалог, реактивная реплика, коммуникативный акт, имплицитные смыслы, интенциональные смысловые пропуски, эллипсис, умолчание, молчание
Короткий адрес: https://sciup.org/144154330
IDR: 144154330
Текст научной статьи Реактивные реплики и имплицитные смыслы в политическом взаимодействии
Kasich: Forget? About illegal imigration? Why are you getting off the subject? (URL: .
В дискуссии между модератором республиканских дебатов Крисом Уоллесом и действующим губернатором Огайо Джоном Кейсиком Крис пытается сменить тему: Can we just forget about illegal immigration? ( А мы не можем отвлечься от нелегальной иммиграции? ). Не дав завершить Уоллесу высказывание, Кейсик пере-
ВЕСТНИК
бивает его репликой-повтором – Forget? About illegal immigration? , демонстрируя недовольство, и более того, агрессивность;
– переключение:
Wallace: Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president, and how will you answer the charge from Hillary Clinton, who was likely to be the Democratic nominee, that you are part of the war on women?
Trump: Ive been challenged by so many people, and I don t frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn»t have time either. This country is in big trouble. We don t win anymore. We lose to China. We lose to Mexico both in trade and at the border. We lose to everybody. (URL: .
В диалоге выше модератор дебатов инициирует вопрос о том, считает ли Трамп правильным, что на пост президента претендует человек, которого все считают ярым антифеминистом. Дональд Трамп переключает разговор на другую тему, обращая внимание Криса на состояние страны, на политические и экономические проблемы США: And to be honest <…> This country is in big trouble <…> We lose to China <…> to Mexico <…> to everybody .
Источники и механизмы формирования имплицытных смыслов. Совокупное значение любой коммуникативной единицы складывается, как известно, из когнитивного (денотативного) компонента, принадлежащего языковому знаку, и имплицитного смысла, формирующегося в конкретной ситуации общения и не имеющего вербального выражения.
Cоотношение значения и смысла в процессе коммуникации рассматривалось многими отечественными и зарубежными учеными, в том числе Г. Фреге, В. Гумбольдтом, М.М. Бахтиным, М.В. Никитиным, Н.А. Слюсаревой, В.А. Звегин-цевым, Г.П. Мельниковым.
М.В. Никитин, указывая на неразрывную связь данных понятий, определяет языковое значение как постоянную часть содержания знаков, общую у говорящих в однородном языковом коллективе и поэтому обеспечивающую понимание в актах речевой коммуникации. Это от- стоявшаяся, общественно признанная и закрепленная категория языка, в то время как смысл – категория личностная, субъективная, достояние индивида [Никитин, 1988]. Аналогичной точки зрения придерживается и А.В. Бондарко, отмечая, что значение той или иной единицы представляет собой элемент языковой системы, тогда как конкретный смысл – это «явление речи, имеющей ситуативную обусловленность» [Бон-дарко, 1978, с. 57].
Представители современной когнитивной лингвистики рассматривают значение как феномен, возникающий на основе совместного опыта употребления знака в процессе речевой деятельности, как некоторый ассоциативный потенциал, представляющий память индивида о предыдущих использованиях того или иного знака и сформировавшийся как структуральное знание определенного социума [Kravchenko, 2012]. Смысл, в отличие от значения, носит индивидуальный характер и не хранится в памяти, а каждый раз создается коммуникантами в процессе общения. Он обусловлен уникальным опытом взаимодействия коммуниканта со средой, а также индивидуальной историей развития собеседников [Демьянков, 1991; Матурана, 1996; Архипов, 2008].
Смысл всегда связан с замыслом высказывания, то есть соотношение значения и смысла в высказывании в первую очередь определяется интенцией говорящего.
При обработке содержания высказывания с имплицитным смыслом адресату, лишенному непосредственного доступа к процессу порождения речи адресантом, необходимо обратиться к процессу инференции – мыслительной операции, в результате которой он может выйти за пределы когнитивного (денотативного) значения языковых единиц, вербально выраженных в высказывании, и вывести дополнительные смыслы, которые и составляют его суть.
Одним из источников порождения имплицитных смыслов в акте коммуникации являются такие ее составляющие, как молчание, умолчание и намеренные смысловые пропуски, представляющие собой полноценные коммуникатив- ные акты, характеризующиеся высокой степенью информативности и многозначности.
Спектр передаваемых молчанием смыслов чрезвычайно широк. «Молчание экспрессивно окрашено, поскольку оно по определению не может являться исключительным источником передачи информации» [Лазутова, 2015, c. 195], то есть коммуникативный акт молчания может либо передавать определенное эмоциональное состояние коммуниканта в процессе диалогического взаимодействия, либо передавать его отношение к репликам или действиям партнера по коммуникации. При этом каждый конкретный смысл выявляется в условиях конкретной коммуникативной ситуации и обусловлен национальными, социально-культурными и религиозными конвенциями различных социумов.
Среди коммуникативных ситуаций, условия протекания которых допускают отсутствие ответных реплик, можно выделить ситуации, когда один из собеседников не желает соблюдать принцип кооперации в силу определенных политических отношений между коммуникантами, различного социального статуса, различного объема фоновых знаний, когда коммуникант желает скрыть кукую-то информацию, выразить протест и др.
Ниже представлен пример интервью между журналистом Крисом Мэтьюсом и Дональдом Трампом, в котором журналист пытается узнать мнение политика о возможности приобретения Японией ядерного оружия.
Matthews: Its been a U.S. policy for decades to prevent Japan from getting nuclear weapon.
Trump: Thats may be policy, but can I be honest with you? Maybe its going to have to be time to change because so many – ehmmm … so many … well, actually … you have Pakistan has it, China has it. You have so many other countries … and …
Matthews: So, some proliferation is OK?
Trump: … Well …
Matthews: So, you are saying you don t want more nuclear weapons in the world but youre OK with Japan and South Korea?
Trump: Well … (URL: http://transcripts. .
В своей инициирующей реплике Мэтьюс отмечает, что США уже в течение нескольких десятилетий стремится предотвратить приобретение Японией ядерного оружия. Дональд Трамп с многократными заминками и паузами отвечает, что, возможно, пришло время перемен, что другие страны, в частности Пакистан и Китай, уже имеют ядерное оружие.
В данном случае частые паузы, обрыв фразы на союзе, использование междометий Well указывает на то, что у Трампа нет желания сообщать свое мнение на такую политически «щекотливую» тему. В ином случае у журналиста или у аудитории могут возникнуть «ненужные» вопросы, которые могут испортить его имидж накануне выборов. То есть в молчании заложен определенный имплицитный смысл: исходя из этических и политических соображений, Дональд Трамп не хочет прямо высказать свое положительное отношение по поводу возможности приобретения Японией и Южной Кореей ядерного оружия. В продолжение диалога на последующий провокационный вопрос журналиста, выступает ли Трамп «за» распространение ядерного оружия ( So, some proliferation is OK? ), он повторно предпочитает молчание конкретному ответу.
Умолчание как коммуникативный акт реализуется в ситуации намеренного опущения говорящим полнозначных языковых единиц высказывания. Индикаторами умолчания выступают:
– на грамматическом уровне – союз, предлог, определенный / неопределенный артикли;
– на просодическом – интонации незавершенности;
– на графическом – тире или многоточие в качестве финальных компонентов высказывания, которые имплицируют синтаксическую и содержательную неполноту языковой единицы и готовят реципиента к усилию по декодировке невысказанного.
Обрыв говорящим речевой цепи обусловлен глобальной интенцией адресанта – максимально воздействовать на адресата посредством реализации своих частных интенций: сказать так, чтобы приукрасить нечто, ввести в заблуждение, обмануть, предвосхитить возмож-
ВЕСТНИК
ные возражения, заинтересовать, создать адресату условия для сотворчества, не обидеть и др.
Wallace: Well, I want to ask you about … a little bit about the nature of your conversations with Pakistani officials, including the president. Have you made it clear to Pakistan that failure to act and to act in like this will affect U.S. relations with Pakistan, including the possibility of the millions of dollars we give them in military aid.
Rice: I have made very clear. It can be a matter for our relationship…
Wallace: When you say matter for our relationship …
Rice: Well, you see, And I made very clear to the Pakistanis that we are a friend of Pakistan. Were an ally of Pakistan … But when something like this happens …well … (URL: .
Данный фрагмент диалога между модератором Крисом Уоллесом и бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс демонстрирует очередной акт умолчания. В своей инициирующей реплике Уоллес спрашивает у Райс, насколько точно она дала понять Пакистану, что его действия могут привести к серьезным последствиям, значительно ухудшив отношения с США. Райс в ответных репликах не дает прямого ответа на вопрос.
В первой реплике Кондолиза Райс пытается сгладить ситуацию, отвечая общей фразой It can be a matter for our relationship… ( Это может стать темой / причиной обсуждения наших дальнейших отношений… ). Крис Уоллес не желает закрывать данную тему и задает уточняющий вопрос, используя тактику повтора фрагмента высказывания: When you say matter for our relationship… ( Когда Вы говорите «темой дальнейших отношений … ).
Высказывание Криса является также незаконченным, на что указывает такой графический маркер, как многоточие в конце предложения, и не оставляет Райс шанса уйти от ответа. Однако в ответной реплике Кондолиза Райс во второй раз прибегает к тактике умолчания, пытаясь и далее сглаживать возможные «острые углы» в разговоре. And I made very clear to the Pakistanis that we are a friend of Pakistan. We re an ally of Pakistan ... But when something like this happens … well … Райс отвечает, что в общем-то США дали понять Пакистану, что они друзья и союзники друг другу, Но когда происходит что-то подобного рода… Многоточие дает возможность домыслить фразу Кондолизы: [Но когда происходит что-то подобного рода, США приходится прибегать к определенным мерам и ответным действиям…] Райс умалчивает истинную информацию о том, как действительно могут в дальнейшем сложиться отношения между двумя странами (But when something like this happens…).
Феномен умолчания обладает высокой частотностью употребления в дискурсе, интегрирует в себе богатый опыт межличностного взаимодействия, способов и средств речевого воздействия.
Намеренные смысловые пропуски представляют собой отсутствие релевантных суждений у адресанта и обусловлены его прагматической установкой. Это приводит к содержательному несоответствию контактно расположенных языковых единиц (высказываний) в диалогическом дискурсе, в то время как синтаксически такие высказывания не рассматриваются как неполные [Миролюбова, 1986, c. 3]. Кроме того, в отличие от умолчания, намеренные смысловые пропуски лишены каких-либо показателей на формально-графическом уровне и выявляются только на смысловой основе.
Phil Mattingly, CNN correspondent: What were your impression on that meeting? Did you get positive feelings about your conversation with Trump?
Ryan: We really dont know each other. First I thought he was a very good personality. But … well, that was our first meeting (URL: http://transcripts. .
Диалог между корреспондентом CNN Филом Мэттингли и американским политиком Полом Райаном демонстрирует прием смыслового пропуска одним из участников диалога, когда коммуникант намеренно изымает из эксплицитного содержания реплики сегмент информации, релевантный для понимания сообщения в целом. На вопрос Меттингли о том, какое впечатление сложилось у Райана по поводу его встречи с Дональдом Трампом, получил ли он приятные эмоции от общения с Трампом (What were your impression on that meeting? Did you get positive feelings about your conversation with Trump?), Райан дал завуалированный ответ. Истинный смысл ответа может быть восполнен лишь посредством умозаключений реципиента с опорой на вербальный контекст и коммуникативную ситуацию в целом. В приведенном фрагменте выведенная имплика-тура представлена следующим образом: На самом деле мы не знаем друг друга. Поначалу мне показалось, что он приятный человек, но… [пообщавшись с ним, я понял, что на самом деле представляет из себя этот человек].
Процесс интерпретации имплицитных смыслов осуществляется в современной науке с позиций различных исследовательских концепций и подходов, среди которых наиболее адекватным, как представляется, является холистический подход, постулируемый современной когнитивно-коммуникативной парадигмой и ее биокогнитивным направлением. Согласно данному подходу в ходе интерпретации того или иного смысла необходимо учитывать весь комплекс составляющих процесса коммуникации: коммуникантов, их социальный статус, гендерные и возрастные особенности, их речевое / неречевое поведение, межличностные отношения, тезаурус, фоновые знания, микросреду, в которой происходит процесс взаимодействия, а также макросреду, которая включает установки, ценности, обычаи, традиции соответствующего социума определенной эпохи.
В рамках данного подхода вывод того или иного смысла происходит в результате воспоминания того, какой смысл возникал раньше при актуализации определенных сигналов в аналогичной ситуации, то есть определенный смысл возникает в результате догадки, процесса «са-мосоздания», или «аутопоэза». Живой организм, как отмечают биокогнитологи, «натренирован» на запоминание опыта коммуникации в прошлом и создание аналогичного смысла [Steffensen, 2011, c. 196; Kravchenko, 2012, c. 137], а «опыт как сложный и многогранный феномен, лежащий в основе познания <…> представляет собой арсенал продуктивных накоплений во всех сферах человеческой жизнедеятельности, где неотделимы предметный мир культуры и приемы пользования им. При этом опыт является не отражением деятельности в субъективном познании, а именно свертыванием ее в деятельностную способность субъекта» [Иванов, 1977, c. 243].
Рассмотренный материал показал, что реактивные реплики, будучи полноценными коммуникативными единицами, выполняют следующие коммуникативно-прагматические функции.
-
1. Регулятивную, связанную со стремлением субъекта речи максимально воздействовать на реципиента с целью побудить его к тому или иному речевому / неречевому действию, с одной стороны, а с другой – стимулировать умственную деятельность адресата с целью побудить его к декодированию имплицитного смысла.
-
2. Когнитивную, выражающуюся в том, что, восполняя отсутствующие сегменты информации, адресат не только использует эксплицитную информацию и свои феноменологические и структуральные знания, но и генерирует новое, выводное знание, пополняющее его информационный тезаурус.
-
3. Оценочную, назначение которой – выразить отношение к собеседнику, дать оценку его действиям, словам.
-
4. Дезинформирующую, когда отсутствие определенных сегментов в дискурсе дает возможность адресанту обмануть адресата, не солгав при этом словесно.
-
5. Функцию ускорения коммуникативного динамизма, способствующую быстрому переходу от одной темы к другой.
-
6. Социативную, демонстрирующую стремление к сотрудничеству.
-
7. Дисконтактивную, ведущую к разрыву установившихся связей, к психологическому дискомфорту.
-
8. Ролемаркирующую, отражающую социальные роли коммуникантов в иерархической структуре социума.
-
9. Социокультурную, обусловленную социально-культурными нормами и этническими традициями того или иного сообщества и др.
ВЕСТНИК
В силу частотности, высокой коммуникативной информативности и многофункциональности реактивные реплики играют значительную роль в различных типах диалогического дискурса, в том числе в публичном политическом диалоге.
Список литературы Реактивные реплики и имплицитные смыслы в политическом взаимодействии
- Архипов И.К. Язык и языковая личность. СПб.: Книжныйдом, 2008. 248 с.
- Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1978. 175 с.
- Демьянков В.З. Тайна диалога//Диалог: Теоретические проблемы и методы исследования. М.: ИНИОН РАН, 1991. C. 10-44.
- Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки славянской культуры, 1977. Т. III: Теоретические проблемы. 367 с.
- Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник/под ред. Л.Ю. Иванова . М.: Флинта, 2003. 837 с.
- Лазутова Л.А. Репрезентация концепта «молчание» в немецком художественном тексте//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015. № 1(31). C. 194-198.
- Матурана У. Биология познания//Язык и интеллект. М., 1996. C. 95-142.
- Миролюбова Т.Г. Намеренные смысловые пропуски в рамках микро-и макроконтекста: авто-реф. дис. … канд. филол. наук. М., 1986. 17 с.
- Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1988. 169 с.
- Чахоян Л.П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка. М., 1979. C. 168.
- Kravchenko A.V. Grammar as semiosis and cognitive dynamics//Cognitive Dynamics in Linguistic Interactions. Newcastle upon Tyne, 2012. P. 125-153.
- Steffensen S.V. Beyond mind: An extended ecology of languaging/Cowley S.J. (ed.). Distributed Language. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2011. P. 185-210.