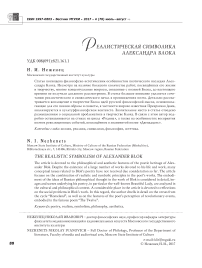Реалистическая символика Александра Блока
Автор: Неженец Николай Иванович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4 (78), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена философско-эстетическим особенностям поэтического наследия Александра Блока. Несмотря на наличие большого количества работ, посвящённых его жизни и творчеству, многие концептуальные вопросы, связанные с поэзией Блока, до настоящего времени не получили должного рассмотрения. В статье большое внимание уделяется сочетанию реалистического и символического начал в произведениях поэта. Детально рассматривается воплощение в творчестве Блока идей русской философской мысли, основополагающие для его поэзии образы и сюжеты, в частности широко известная Прекрасная Дама, анализируются в культурфилософском контексте. Значительное место в статье отведено размышлениям о социальной проблематике в творчестве Блока. В связи с этим автор подробно останавливается на стихах из цикла «Родина», а также на особенностях восприятия поэтом революционных событий, воплощённом в знаменитой поэме «Двенадцать».
Поэзия, реализм, символизм, философия, эстетика
Короткий адрес: https://sciup.org/144160721
IDR: 144160721 | УДК: 008(091):821.161.1
Текст научной статьи Реалистическая символика Александра Блока
В поэтическом явлении Александра Блока почти сразу почувствовали дарование «необычайно крупное, стихийно-художественное [6, с. 95]». В самом сочетании избранных им слов, в непререкаемой точности и звучности их, какая складывалась в его стихах, вещала полная неотразимой гармонии и музыки душа большой поэзии. А между тем его долгое время называли «поэтом масок»; и он действительно легко переходил в своей мысли от прекрасного и возвышенного к обыденному, от страстного к умиротворённому, почти не задумываясь о существе самого сюжетного действа. Но поэту никак не давалось определённо высказываться. По сути, ни одна лирическая песня не допевалась им до конца: зазвенит струна и тотчас смолкнет, задрожит в звуке другая – и также беззвучно стихнет. Песни уносили земную душу певца в бездонное Небо, и порою случалось, что чувство меры в его задушевном напеве уступало неточной ноте, оттесняющей красоту магического слова. Однако Блок ясно понимал, что его песни нужны людям, но ещё и полю, ещё и лесу и лугу, и чудилось, будто всё окрестное страстно требовало, чтобы юный певец неизбывно пел миру «высокие гимны о том, как ясны зори, как стройны сосны, как вольна душа» («Над озером»).
Поэт изначально обладал изощрённым образным слухом. Казалось, он слышал, как растёт на земле трава, и какие шорохи возбуждает в небе «полёт горних ангелов», и о чём шепчут прибрежные волны, скрывающие в себе «рыб морских подводный ход». При этом стих Блока не отстранялся от будничной реальности; но его лирический бытовизм нередко обретал самые невероятные, условные очертания, так что обыденная домашняя обстановка непринуждённо сдвигалась к последним граням мистического действа.
На первых порах, однако, Блок доверчиво присматривался к поэтике В. С. Соловьёва [3, с. 38]. В частности, его порывистое желание зримо воспроизвести образ Мировой Души совпадало с пристрастием к нему последнего, который, заметим, начинал своё творчество с идеи воплощения на земле теократии. Мысль о Богочеловеческом начале закрадывалась и в блоковские стихи о Прекрасной Даме:
Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали,
Жду вселенского света
От весенней земли [1, с. 68].
Впрочем, увлечение молодого поэта идеей Мировой Души было недолгим и несколько поверхностным, так что он вскоре начал колебаться в своей привязанности к её явлению: «Но страшно мне: изменишь облик Ты – и дерзкое возбудишь подозренье». И весь первый символико-романтический период в творчестве Блока связывался с раскрытием таинства высшего, небесного (и земного тоже). Кстати, эпиграф из поэзии Владимира Соловьёва венчал его книгу «Стихов о Прекрасной Даме» (1902):
Ты непорочна, как снег за горами,
Ты многодумна, как зимняя ночь,
Вся ты в лучах, как полярное пламя, Тёмного хаоса светлая дочь!
[1, с. 122]
В соловьёвском свете Блок старался придать своему стиху по-детски неподдельный, дерзкий смысл и утончённую метафоричность. Его песни о Прекрасной Даме были так целомудренно чисты и музыкальны, в них ощущалось столько воистину неведомой, надземной святости, что чудилось, будто они сотворены сиянием зари, шелестом травы, шуршанием приречного тростника, а душа самого поэта подвергалась нерукотворному ваянию, как если бы и впрямь оживлялась световыми токами божественного дыхания:
Терем высок, и заря замерла, Красная тайна у входа легла.
Кто поджигал на заре терема, Что воздвигала царевна сама?
Каждый конёк на узорной резьбе
Красное пламя бросает тебе.
Купол стремится в лазурную высь, Синие окна румянцем зажглись.
[1, с. 128]
Завораживала сама лирическая стихия в символизме Александра Блока. Его ранние стихи слагались в неопределённоличном свете: кто-то ходит, кто-то бежит, кто-то зовёт… Кто действует – не было сказано; порою и вовсе вместо конкретного лирического героя указывалось нечто туманное:
Прискакали дикой степью
На вспенённом скакуне.[1, с. 78].
Прискакали, а кто именно – неизвестно. Действующего лица как такового не было; оно не то чтобы было скрыто;
оно было опущено, его не было совсем. Поэт старался мыслить одними глагольными формами:
Блеснуло в глазах, метнулось в мечте, Прильнула к дрожащему сердцу
[1, с. 79].
Действующее лицо должны были придумывать сами читатели. Это придавало поэтическому сказанию некую «сумрачную неясность» [6, с. 42], в чём, казалось, и состояла тогда образная задача автора – затуманить собственную речь. Только таким смутным и неотчётливым языком он мог говорить о своей тайне, что на долгие годы сделалось его лирической темой.
Язык Блока словно создавался для выражения некоего поэтического таинства. Не случайно само слово «таинственный», прилагаясь ко многим вещам и явлениям, играло очень важную образ- но-смысловую роль в таких стихах поэта: таинственная заря, таинственный сумрак, таинственное дело.
И «тайной тайн» была у Блока таинственная Дама, которой он посвятил свою первую книгу стихов и которую величал в ней вечной Весной, вечной Женой, вечной Надеждой, недостижимой, непостижимой. Было не ясно, кто она и где она; говорилось только, что она таинственна, и казалось, если её лишить этой таинственности, она тотчас исчезнет, перестанет существовать. Образ её постоянно зыбился, двоился, рассеивался, так что трудно было определиться, кто она изначально – то ли звезда, то ли женщина, то ли скала, озарённая солнцем [6, с. 69]. Но ясно выделялись в стихах Блока два образных слова – свет и тьма. Они приводились чуть ли не в каждом стихо- творении, так что «Стихи о Прекрасной Даме» (1901–1902), в сущности, были стихами о свете и тьме.
Пусть светит месяц – ночь темна. Ступлю вперёд – навстречу мрак, Ступлю назад – слепая мгла [1, с. 31].
И немеркнущим огнём, источающим свет в его ночи, была та единственная, кого он называл Лучезарная. Всё, что было в природе огневого и огненного, связывалось с её образами, а всё, что было не она, сумрачно сгущалось, становилось тьмою. И к звукам поэт прислушивался только к таким, которые говорили о Ней; все другие звуки казались ему навязчивым шумом, мешающим слушать Её. Лучезарная Дева была светом и звуком мира.
Кругом о злате и о хлебе
Народы шумные кричат [1, с. 108].
Народы всегда жаждут и требуют злата и хлеба; но поэту было мало дела до их крикливого шума. В то время он относился к людям не то что отчуждённо, но с явной прохладой и недоверием. Блок так и называл свою поэтическую Деву – «святая», и терпеливо ждал её, и упорно надеялся, что она придёт к нему, сблизится с ним и соединится. Стихи о Прекрасной Даме сделались удивительной повестью страстных ожиданий, сомнений, предчувствий и гаданий:
Не замечу ль по былинкам
Потаённого следа?.. [1, с. 116]
Только о ней, о своей таинственной он мог переживать и петь – изо дня в день, в течение шести лет, с 1898 по 1904 год, посвятив избранной теме ни много ни мало, а 687 стихотворений. В итоге составилось целостное лирическое сказание, образно повествующее о том, как пылкий подросток столь восторженно влюбился в юную соседку, что создал из неё Лучезарную Деву, а весь окружающий её деревенский пейзаж преобразил в неземную обитель. С ним случилось, в сущности, то же самое, что произошло некогда у Данте с Беатриче, дочерью соседа Портинари.
Поэтика Блока была исполнена тайны, под сводами которой виделась сущность искусства ещё молодым романтикам Иены и в опоре на которую так непосредственно отстранялось всё земное во имя неземной благодати. Поэт лирическими средствами постигал «откровение бесконечного в конечном [4, с. 218]».
Однако Блок недолго сохранял в себе завораживающее лирическое состояние. Его безотчётная привязанность к Прекрасной Даме оказалась преходящей; среди «девственных горних селений», среди «белых звуков» и «белых сказочных забвений» он вдруг стал замечать несветлые полосы «пламенных теней».
В лирике Блока появились мотивы «небывалых раздумий» и небывалых исканий, из которых вскоре составилась книга «Перекрёстки» и которые венчались уже другим эпиграфом из поэзии Владимира Соловьёва: «Не миновать двойственной сей грани». Поэт теперь больше говорил о «снегах», «непогоде» мира сущего, чем о «лучах свободы» в жизни запредельной.
Все лучи моей свободы
Заалели там.
Здесь снега и непогоды
Окружили храм [1, с. 56].
В стихах в качестве персонажей стали появляться улицы, переулки и, конечно, те, кто ходит по ним – рабочие фабрик, женщины-блудницы. Певец мог воскликнуть: «Уводи, переулок, в дымно-сизый туман», где:
На башне колокольной
В гулкий пляс и медный зык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык [1, с. 180].
В «Перекрёстках» высветилась предельно заземлённая образно-лирическая струя, исполненная явных скептических кривляний и кощунственного отношения поэта к миру и к себе в мире:
Я был весь в пёстрых лоскутьях, Белый, красный, в безобразной маске.
Хохотал и кривлялся на распутьях, И рассказывал шуточные сказки
[1, с. 250].
Лёгкая ирония, впервые проскользнувшая в структуру стихов о Прекрасной Даме, жёстко предстала впоследствии в произведениях «Нечаянная радость» и «Балаганчик», где на её основе обозначились первые образные очертания двойника поэта:
О, разделите! Вы видите сами:
Те же глаза, хоть различен наряд.
Старый – он тупо глумится над вами,
Юный – он нежно вам преданный брат.
[1, с. 233]
Собственно, лирическая пьеса «Балаганчик» была написана глумившимся двойником автора. Поэт-мистик, каким он представал в «Стихах о Прекрасной Даме», теперь иронически высмеивал ми- стику, так что его «лучезарное» видение, прежде соотнесённое с образным явлением Мировой Души, обращалось отныне в некую «картонную» невесту, упавшую «ничком на землю» и ставшую предметом бытовой ненужности. Образ чарующей Дамы безлико-бездушно стирался. Из таких стихов постепенно сложилась другая поэма, которую автор назвал «Снежная маска» и которую увенчал новым, неровным и надрывным возгласом: «Возврати мне, маска, душу!» Но она в ответ только опустошала её, увлекая сердечную к граням небытия:
Вот меня из жизни вывели
Снежным серебром стези…
И в какой иной обители
Мне влачиться суждено, Если сердце просит гибели, Тайно просится на дно?
[1, с. 203].
Но затем в поэзии Блока произошли невиданные перемены. Поэт словно впервые посмотрел на самого себя и нашёл на своём лице уничижительные изменения: он увидел себя нищим, бродягой, посетителем ночных ресторанов. Слово «кабак» стало возникать в его поэтической речи так часто, как прежде приводилось слово «храм»; в стихах появились «ржавые трясины», чахлые «болотные кочки», болотные впадины, болотная стоячая вода. И во всём этом не ощущалось художественной ясности, не было той пушкинской мудрости, о которой грезил молодой поэт и которая придёт к нему много позднее. Небо певца «упало в болото»; в его речи запестрела лексика, отягощённая зловещей образностью «хаоса», «земной заботы», «неизбывной нужды», «голодного Лиха». Её появление было тематиче- ски неизбежно: у Блока рождалась новая смысловая привязанность – столичный Петербург. В стихах о Снежной Деве он так писал о нём:
И город мой железно-серый,
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,
С какой-то непонятной верой
Она, как царство, приняла…
Она узнала зыбь и дымы, Огни, и мраки, и дома – Весь город мой непостижимый, Непостижимая сама [1, с. 72].
Расплывчато представленную Прекрасную Даму теперь вытеснило некое другое полубожество, более конкретное и ясное – Незнакомка-красавица. Оно будто снизошло с небес на землю и, представ в виде беззастенчивой блудницы, дерзко захотело вдруг «не молитв, но вина и объятий»:
По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух…
[1, с. 44]
Отстранившись от своей Лучезарной, Блок словно впервые узнал, что на свете есть иные, отнюдь не лучезарные, но земные женщины. В его стихах неуклонно стал появляться образ свободной жрицы: «пляшут огненные бёдра проститутки площадной»; «Женщина-блудница от ложа пьяного желанья». Кажется, только теперь поэт прозренчески понял, что в городе живут не только он и его небесная Дева, но и другие люди. Эта истина открылась ему ещё в ноябре 1903 года, когда он написал стихотворение «Фабрика». Правда, живой человек тогда предстал перед ним только со спины:
Мы миновали все ворота,
И в каждом видели окне, Как тяжело лежит работа На каждой согнутой спине [1, с. 56].
В творчестве Блока наступила пора «певучего взора», «снежной маски». Во всей этой изощрённой знаковости, где, по традиции, правда требовала себе красоты, но не соединялась с нею, ощущалась явная отстранённость певца от мирской жизни. Стихи о карлике, одиноко сидевшем за ширмой, близко, портретно-психологически передавали внутреннее состояние самого поэта. После революционного всплеска 1905 года он вместе с другими творцами символизма «принялся раздвигать ширмы дремотно сгустившейся жизни».
В тайник души проникла плесень… Но надо плакать, петь, идти, Чтоб в рай моих заморских песен Открылись торные пути [1, с. 180].
Последовавшие затем годы с неровным творческим успехом нередко омрачали поэта, подводя его к полной душевной пустоте и бессилию. Прекрасная Дама ушла из его поэзии, и мир её сделался бессодержательным и тусклым: «ты отошла, и я в пустыне»; «жизнь пуста, безумна и бездонна»; «жизнь пустынна, бездомна, бездонна…»
И Блок отчуждённо рассмеялся. Это был иронический смех одиночества над утраченной любовью и верой, которым он смеялся ещё в пьесе «Балаганчик». Но тогда смех был весел и беззаботен, и в нём завораживающе вскипали отвага и дерзость «лирической молодости». Теперь смех сделался жёстким и горьким, обречённо испепеляющим всякую веру и ценность жизни: «Что совесть, правда, жизнь? Какая это малость! Ну, разве не смешно?» Русская поэзия и впрямь впервые наполнилась звуками безутешного, горестного смеха:
Что делать? Изуверившись в счастье, От смеха мы сходим с ума.
И, пьяные, с улицы смотрим,
Как рушатся наши дома [1, с. 98].
О своём печальном смехе поэт тогда же, в 1908 году, написал статью «Ирония», ставшую своеобразным толкованием его художнического состояния и творчества в целом. Ирония представлялась как зловещая болезнь, которая проявляется в безутешном и изнурительном смехе.
Такой смех представлялся не чем иным, как предчувствием скорого конца, так что Блок на протяжении ряда лет стал убеждать себя в том, что его в литературном мире больше не существует:
Сердце – крашеный мертвец;
И когда настал конец,
Он нашёл весьма банальной
Смерть души своей печальной.
[1, с. 200]
В «Снежной маске» у Блока что-то, несомненно, отзвучало, отсеребрилось, оборвалось. Завершался период его символико-романтического творчества, и стихи, что рождались позднее, не открывали собой ничего нового, кроме явного художнического недомогания. И тем не менее именно в эту пору в ослабленную творческим недугом жизнь поэта приходит ощущение свежей весны. Он встретил её настороженно и сурово, как нежданную гостью, очень рано и даже ненужно явившуюся. Весна показалась ему серой, неумытой, почти развратной и вполне достойной поэтической отчуждённости:
Зачем непрошенной вошла,
Куда и солнце не входило?.. [1, с. 85]
Но «отсеребрилась» и отпела и «рано» пришедшая весна. Тогда поэту захотелось тишины, которую некогда искал для себя и которую находил среди «широких дубрав» незабвенный гений Пушкина. После «Стихов о Прекрасной Даме» у Блока стали безжизненно закрываться глаза; но теперь при мысли об образах, «звучащих (светлой) тишиною» его «вещие зеницы отверзлись», и он узрел внутренним оком то, что прежде от него было им самим сокрыто.
Лишь озеро молчит, влача туманы, Но ласково на нём отражены
И я, и все союзники мои –
Ночь белая, и Бог, и твердь сосны.
[1, с. 250]
В спокойных и строгих стихах Блока рождались «Вольные мысли». В них поэт неуклонно восходил на те вершины драматического лиризма, где его душе суждено было сблизиться со «светлой печалью» зрелого Пушкина. Блок отнюдь не собирался подражать староклассическому певцу; но его поэтическая мысль обретала отныне ту исконно образную значимость и в ней ощущалось то же неподражаемо крепкое авторское величие, которым основательно дышали вещие стихотворения Пушкина, настоенные на царственной тишине и царственном одиночестве гениального творца: «Ты – царь, живи один!..»
«Вольные мысли» Блока явно сближались с пушкинскими стихами последних лет своей естественной простотой, прозрачной ясностью, рассудительной мудростью. Магически чарующими казались эти стихотворения, навеянные глубокой умиротворённостью после столь холодной, «снежной вьюжности» и бурных всплесков «метели».
По «белым» стихам Блока можно судить о его настоящем художническом даровании. Поэт мог опять заговорить о смерти, но на этот раз не о собственной, а о чужой, постигшей неосторожного жокея, который:
Всю жизнь скакал с одной упорной мыслью,
Чтоб первым доскакать. И на скаку Перед препятствием запнулась лошадь.
Уж силой ног не удержать седла,
И утлые взмахнулись стремена,
И полетел, отброшенный толчком, Ударился затылком о родную Весеннюю, приветливую землю.
И в этот миг в мозгу прошли все мысли,
Единственные, нужные. Прошли и умерли,
И умерли глаза… [1, с. 302]
Отзвуки пушкинского голоса слышатся и в другом стихотворении – «Над озером», романтически пафосном и строгом, где поэт попробовал завязать разговор с самим собою в кругу персонажей из мира природы. И ему это художественно удаётся на языке «высокого песенного лада», исполненного сердечной чистоты и простодушия:
И кто посмотрит снизу на меня,
Тот испугается – такой я неподвижный,
В широкой шляпе, средь ночных могил,
Скрестивший руки, стройный и влюблённый в мир.
Но некому взглянуть. Внизу идут Влюблённые друг в друга.
Нет им дела
До озера, которое внизу,
И до меня, который наверху.
Им нужны человеческие вздохи,
Мне нужны вздохи сосен и воды.
А озеру-красавице – ей нужно,
Чтоб я, никем невидимый, запел
Высокий гимн о том, как ясны зори, Как стройны сосны, как вольна душа.
[1, с. 360]
Повествование завершается «чутким молчанием» озера, в котором безмерное таинство воды естественно перемешалось с неизбывной ясностью земли и неба.
Этически-образно, созвучно с изложенным мировидение поэта в стихотворении «В северном море». Здесь воссоздана незамысловатая зарисовка пляжного берега, где беззаботно веселятся молодые модницы и юноши, а поэту видится другая, воистину тютчевская картина, составленная из драматического смешения земного и небесного:
…Руки
Одна заря закинула к другой,
И сёстры двух небес прядут один
То розовый, то голубой туман.
И в море утопающая туча
В предсмертном гневе мечет из очей
То красные, то синие огни…
[1, с. 308]
В стихах молодого певца с непреклонной страстью оживала его душа, «молитвенная и полная», свято воспринимающая просторы земли и неба.
Воздействие Пушкина было явным, хотя и недолгим. Когда все поэтические привязанности Блока были утрачены, и ему оставалось, в самом деле, разве что умереть, он будто из этой близко подступившей к нему художнической погибели неожиданно воскресил в себе новое образное обожание. Блок почувствовал тогда, что есть на свете такая святыня, которая словно сотворена из мирских бед и погибели и которая тем и жизненно свята, что «вся она есть боль и тоска [6, с. 85]», и что только она могла бы стать его новой, неизбывной творческой опорой. Земной святыней поэта стала Русь-Россия-Родина.
Прежде «милая» поэта была либо святая, либо падшая, либо судьба, либо смерть. Но теперь в её облике одновременно сошлись святое и падшее, судьба и смерть, потому что всё это символически определяло образное содержание Лучезарной Девы – России. Отныне весь свой душевный лиризм и божественную святость певец связывал только с этой своей художественной привязанностью, которую он тотчас объявил своей новой Женою:
О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь.
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы – ночной и зарубежной – Я не боюсь [1, с. 398].
В творчестве Блока навсегда утверждалась тема Родины. Прежде у Блока Родиной была Лучезарная Дева, или
Прекрасная Дама. Ей одной он трепетно поклонялся, к ней пылко были обращены все его юношеские надежды, все страсти и устремления, все боли и переживания; с нею одною он связывал своё воскресение как поэта. Она служила ему неиссякаемым истоком его образно-символических излияний; каждая его поэ- тическая мысль искала единения с нею, Лучезарной.
Но величие Прекрасной Дамы поэт почувствовал по-настоящему, кажется, только теперь. Раньше он изливал своё сердце стихийно, «в беспамятстве юношеских мучений [2, с. 226]», часто глубоко забываясь и забывая обо всём на свете. Теперь романтическое опьянение стало ослабевать; он неожиданно пришёл в себя и тотчас будто впервые увидел жизнь, а в ней узрел ту образную высоту, на которую в прежнюю пору его так высоко и заботливо-нежно возносила в творческих исканиях она, Лучезарная.
Блок создавал мир неведомый и величественный, состоящий из одних чистых грёз и метонимических смещений. Он возводил себе изумительное по богатству и душевной страсти образное царство. Но тогда он не подозревал об истинных размерах и эстетической содержательности своей поэтической державы. Границы её и настоящая духовно-художественная ценность чётко обозначились теперь, когда, собственно, прежней державы не стало.
Ты отошла, и я в пустыне
К песку горячему приник.
Но слова гордого отныне
Не может вымолвить язык. О том, что было, не жалея, Твою я понял высоту:
Да, ты – родная Галилея
Мне, невоскресшему Христу. И пусть другой тебя ласкает, Пусть множит дикую молву;
Сын Человеческий не знает, Где преклонить ему главу [1, с. 88].
По сути, первым подступом к теме Руси-Родины в поэзии Блока явилась его портретно-психологическая зарисовка «Незнакомка» (1906). Лирическая героиня этого произведения словно вышла из поэтики Достоевского. Это – сошедшая с его страниц Соня Мармеладова, зарабатывавшая на жизнь случайными связями свои жалкие «целковые», которые потом непременно будут похищены её безнравственным отцом и употреблены им на очередное нетрезвое «сидение» в таверне. Но Соня преимущественно «работала» на улице, тогда как Незнакомке у Блока выпала иная, более цивилизованная «миссия» – стать посетительницей роскошных ночных ресторанов. Всё сюжетное действие в стихотворении и сведено к явлению красавицы в этой небезгрешной русской обители, снизошедшей до пустой увеселительной праздности и развлекательной торговли женской красотою. Блок приводит свою героиню в пышущее роскошью вечернее заведение, куда разве что захаживают в изысканных одеждах обеспеченные и беспечные, «испытанные остряки» и где определено поражать посетителей своими «туманными шелками» и несравненным женским обаянием ей, блоковской Незнакомке.
И каждый вечер в час назначенный (Иль это только снится мне?) Девичий стан, шелками схваченный, В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпка с траурными перьями, И в кольцах узкая рука [1, с. 63].
В цикле стихов о Родине, который создавался на протяжении более десяти лет (1906–1918), Блок попытался лирическим способом воспроизвести вековечные вехи народно-бытовой жизни и истории России. Они получили разножанровое представление в виде «говорящей» природной сценки («Дым, от костра струёю сизой…»), характерной бытовой зарисовки («Осенний день»), в жанровой форме обобщённо осмысленного, философического эссе («Там неба осветлённый край…»). В них опорная образная деталь, портретно-психологически охватывающая заглавный смысл в сюжетном строе стиха, раскрывала весь облик будничной повседневности и исторической эпохи в целом. Русь характеризовалась редеющим «под топором» лесом, и осенними журавлями, с криком плывущими в седом, поднебесном тумане, и растерзанной колёсами поезда женщиной в железнодорожном рву.
Так, осенний день в одноимённом стихотворении венчается звоном и плачем журавлиной стаи, сострадательно связавшей своё «горевание» с явлением «низких, нищих деревень», которых на Руси «не счесть, не смерить оком» и «потемневший день» которых (в этом общем горевании) может продлиться разве что зыбким, неярким светом костра «в лугу далёком». В другом стихотворении, заглавие которого также созвучно с на- чальной строкою, пластичные штрихи из мира природы и жизни людской сведены в единое сюжетное действие метонимической знаковостью, воссоздающей всеохватывающий пространственно-бытовой образ Руси-России:
Там неба осветлённый край
Средь дымных пятен,
Там разговор гусиных стай
Так внятен.
Свободен, весел и силён,
В дали любимой
Я слышу непомерный звон Неуследимый.
Там осень сумрачным пером
Широко реет,
Там старый лес под топором
Редеет [1, с. 228].
Символико-метонимический способ организации текста из типовых, образносмысловых мелочей использован поэтом и при воссоздании национально-психологической атмосферы русской жизни и человека в ней. Русский у Блока непробудно грешит, и бесстыдно лукавит, и в Божий храм наведывается с хмельной головою, а затем заваливается «на перины пуховые», чтобы «в тяжёлом сне» забыться от всех своих бедовых слабостей и недугов.
Однако повествование неожиданно заканчивается аккордом приемлемости сущего. Достоевский говорил: «Бога я принимаю; я мира Его не приемлю». Блок, который подпитывал свою поэзию его идеями и одновременно возражал им, принимал в своём сердце и Бога, и Его мир со всей его нескладной и горевой русскостью:
Но и такой, моя Россия, Ты всех краёв дороже мне.
(«Грешить бесстыдно, непробудно…») [1, с. 240]
Блоковская мысль, пытаясь схватить событийные всплески в истории Руси и схватывая их, нерасторжимо связывала в себе единой причинно-следственной связью одну эпоху с другою, давно прошедшее с современным. В стихотворениях «Куликовского» цикла Лучезарную Деву сначала вытеснила красавица княгиня, поджидавшая из степного похода своего любимого мужа («В густой траве пропадёшь с головой…»). Затем поэт и его подруга условно-образно перенесены на бранное поле, где в жестокой битве уже тогда, в толще былого, решалась их теперешняя судьба и судьба родной земли:
В ночь, когда Мамай залёг с ордою Степи и мосты,
В тёмном поле были мы с тобою, – Разве знала Ты?
Перед Доном, тёмным и зловещим, Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим В криках лебедей… [1, с. 253]
В других стихах цикла чарующий образ милой смешался с русской природой, попеременно закрепляясь то в образе вольной реки, то в смутных очертаниях рассыпанных в поле грустных стогов, то в виде степной кобылицы, стремительно скачущей по ковыльной степи и никогда не выходящей из вечного всемирского боя.
Река раскинулась, течёт, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной жёлтого обрыва В степи грустят стога… [1, с. 260].
О чём они грустят? И откуда явилась эта болевая грусть у чуткой осенней природы?.. Она возникла разве что в незапамятные времена монгольского нашествия, и с той поры неизбывная грусть-тоска разлилась по всей Руси, всосалась, навсегда въелась в живую плоть русской души, в её жизнетворимый дух и путь. Почти всегда битва с недругами завершалась русской победой, но сражение не заканчивалось вовсе, ибо жизнь и судьба Руси-России – это несмолкаемый, «вечный бой», так что:
… Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль… [1, с. 250]
«Степная кобылица» Руси-России несётся вскачь по бескрайним и бранным просторам истории – от поля к полю, из боя в бой: «Вздыхает конская грива, за ветром взывают мечи…» И всюду она, милая, Лучезарная, перевоплотившись в вещи и явления природы, свято сохраняла в себе исконные черты русской души и русского сознания: «Явись, моё дивное диво, быть светлым меня научи…»
В стихотворении «Россия» образ «милой» неуклонно ширится, раздвигается, срастаясь с образом самой державы. Блок изобразил Россию народную, крестьянскую; она представлена буднично, наглядно-зримо, в сонме историко-бытовых событий и происшествий. Это – Русь нищая, обездоленная, Россия серых изб, ветровых песен, «разбойной (женской) красы»; это Россия долгих степных до- рог, дремучих лесов, тоскливых острожных и ямщицких песен.
В просторы безбрежья вписан со своими думами и переживаниями и сам поэт. Он образно выхватывает из жизненной стихии России всё знаково-осязаемое, вещное, обволакивая его пленительногорестным величием, отчего лирическая драма мирской истории становится живописно-пластичной и художественно значимой.
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слезы первые любви!
Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, –
Не пропадёшь, не сгинешь ты.
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…
Ну что ж! Одной заботой боле – Одной слезой река шумней, А ты всё та же – лес да поле, Да плат узорный до бровей…
[1, с. 270]
Ещё драматичнее предстала Русь-Россия в другом стихотворении – «Коршун», где поэт «перебирает» характерные составляющие русской жизни. Она так и складывалась – из войн, мирских мятежей и пожарищ; и всё это длилось из года в год, из века в век:
Идут века, шумит война,
Встаёт мятеж, горят деревни…
[1, с. 68]
В двух следующих стихах драматический портрет Руси-России психологизируется и подаётся на утончённых гранях образной двойственности: Россия – это громадина-держава и Россия – как живое существо с явно выраженным судьбо- носно-прорусским женским началом, с нерастраченным славянским обаянием:
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.
[1, с. 68]
Заключительное двустишье, составленное в форме риторического обращения к истории и её русской судьбе, органично сближает в едином потоке русской жизни два оксюморонно исключающих друг друга образа – вечное горевание матери и постоянное кружение над бранным полем коршуна, ненасытно жаждущего себе пищи. В итоге сложился поэтически ёмкий, из шести строк, портрет, символически передавший всю трагико-драматическую историю России.
Идут века, шумит война,
Встаёт мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. – Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить? [1, с. 68].
Свет мира человеческого, его истории, совмещённый с идеей Бога, запечатлелся у Блока в поэме «Двенадцать». Идея Христа перестала «греть» сознание красногвардейцев, воспылавших идеей собственно человеческой, огненнореволюционной. Но они не могут выйти из сферы божественной; человек отстранился от Бога, но Бог не отстранился от человека. Он по-прежнему идёт впереди человеческого «стада», освещая его земной путь и пытаясь в свете своём оберегать и спасать его. У Блока свет божественный перемешался с собственно человеческим. И в этом смешении идеи Бога и идеи мирской происходят события, не утратившие истинного историко-трагического смысла.
Блок, во многом ориентировавшийся на Достоевского, пошёл дальше него в идее столкновения человека с Богом. Достоевский, стараясь разрешить самую важную проблему для оправдания человечества, выдвинул формулу: «если Бога нет, то всё дозволено». Человек у Достоевского доходит в своём решении до крайности: даже тогда, когда он соглашается, что Бог есть, он продолжает жить по собственной воле и по собственной воле совершает свою революцию. Но Достоевский не решается тронуть Бога; он просто выпроваживает его из жизни мирской. Великий Инквизитор, почти разучившийся говорить с людьми, объявляет Христу: «Зачем ты пришёл нам мешать? Мы и без тебя научились жить в мире. Ступай и больше не приходи … не приходи вовсе ... никогда, никогда!» «Апостолы» же Блока свободно палят из винтовки и в человека, и в Спасителя; в свете русского трагизма они защищают собственную идею жизни, которая им представляется выше человека и выше Бога.
Человек у Блока утратил свою идентичность в Боге; он перестал видеть в себе своё различение с Ним, когда стреляет в Христа словно в недруга революции. И Бог принимает эту идею: Он не отстраняется и не уходит из передних рядов человеческого движения. Христос остался в человеческой истории и повёл людей по
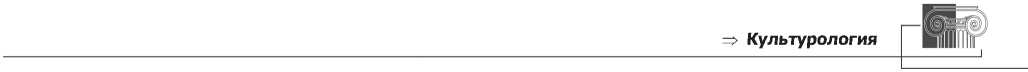
свободно начертанному ими пути, на котором, как сказано в «Откровении» Иоанна, всё должно быть ново: «и земля, и звёзды, и жизнь мирская».
В поэме «Двенадцать» Блок предсказательно приблизился к мысли, которую затем продолжила (уже без него) другая поэзия и другая история. Символисты пошли искать в России Бога, а обрели саму Россию в качестве Бога. И она предстала им в таком трагическом свете, в каком никогда и никому не являлась прежде, и, явившись в этом свете тогда, на исходе 10-х годов ХХ века, Россия-Русь так и осталась в состоянии своего русского трагизма в продолжение всего мятежного столетия, пока революции и войны не надломили её основание.
Список литературы Реалистическая символика Александра Блока
- Блок А.А. Избранные произведения / [вступ. статья, с. 3-32, и примеч., с. 545-583, В. Орлова]. Ленинград: Лениздат, 1970. 614 с.
- Гофман М.Л. Книга о русских поэтах последнего десятилетия. Санкт-Петербург, 1907. 411 с.
- Минц З.Г. Блок и русский символизм. Книга 1. Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 1999. 726 с.
- Пуанкаре А. Избранные труды: в 3 томах: [перевод] / под ред. акад. Н.Н. Боголюбова (гл. ред.) и [др.]; [коммент. В.И. Арнольда и В. М. Алексеева]. Москва: Наука, 1971. Том 1. 470 с.
- Пяст В.А. Встречи. Москва: Федерация, 1929. 300 с.
- Чуковский К.И. Александр Блок как человек и поэт: введение в поэзию Блока. Москва: Русский путь, 2010. 184 с.