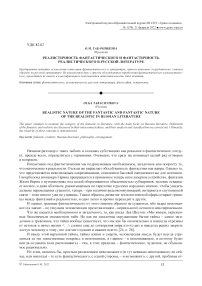Реалистичность фантастического и фантастичность реалистического в русской литературе
Автор: Табачникова Ольга Марковна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка осмысления категории фантастического в литературе, причем внимание сосредоточено главным образом на русской литературе. Во взаимосвязи друг с другом обсуждаются определения фантастического и реалистического, проводится их анализ и классификация и доказывается относительность этих понятий.
Фантастическое, реалистическое, русская литература, философия, остранение
Короткий адрес: https://sciup.org/148324199
IDR: 148324199 | УДК: 82.02
Текст научной статьи Реалистичность фантастического и фантастичность реалистического в русской литературе
Начиная разговор о таких зыбких и сложных субстанциях как реальное и фантастическое, следует, прежде всего, определиться с терминами. Очевидно, что сразу же возникает целый ряд оговорок и вопросов.
Интуитивно под фантастическим мы подразумеваем необъяснимое, загадочное или попросту то, что невозможно в реальности. Отсюда же вырастает обособленность фантастики как жанра. Однако то, что представляется невозможным современникам, становится бытовой ежедневностью для потомков. Гиперболоид инженера Гарина превращается в привычное теперь всем лазерное устройство, фантазии Жюля Верна о путешествиях под водой оборачиваются обыденностью субмаринов, человек осваивает космос, и даже яблочком, раскатываемым по тарелочке в русских народных сказках, чтобы увидеть далекие перемещения суженого, теперь – при наличии видеокоммуникаций, интернета и спутниковой связи - тоже никого уже не удивишь. Таким образом, развитие технологической сферы стирает границы между фантазией и реальностью, и одно легко и прочно переходит в другое.
И однако, границы фантастического от этого никоим образом не сужаются, ибо недра непознанного (а значит – по текущим человеческим представлениям – нереального) остаются неисчерпаемыми.
Что же касается необъяснимого и загадочного, то, как писал Лев Шестов: «Мы живем, окруженные бесконечным множеством тайн. Но как ни загадочны окружающие бытие тайны - самое загадочное и тревожное, что тайна вообще существует, что мы как бы окончательно и навсегда отрезаны от истоков и начал жизни <…> словно еще до сотворения мира кто-то раз и навсегда решил закрыть доступ человеку к тому, что для него нужнее и важнее всего» [24, с. 26].
И ввиду этой верховной тайны, тайны жизни и смерти, человеческая мысль будет всегда стремиться за эти таинственные покровы, в непознанное, а главное – в непознаваемое, и поэтому будет всегда создавать (или распознавать) - там, в этих пределах - фантастическое, чудесное, не объяснимое рационально.
Но этим, казалось бы, простым разделением невозможного (и тут неважно невозможного ли сейчас, или никогда) - то есть фантастического, с одной стороны, - и возможного, с другой, проблема от- нюдь не исчерпывается, поскольку переход от жизни к искусству смешивает карты и иначе расставляет акценты.
Так, Цветан Тодоров считал фантастическими не те произведения, где фантастическое является жанровой нормой, и скажем, Баба Яга летает на метле, (ибо это ожидаемо и диктуется как раз условностями жанра), а те, где читатель не в силах определиться, «в каком ключе - мистическом или позитивистском – ему следует истолковывать повествование» [20]. По Ц. Тодорову, «фантастическое в произведении <…> существует, пока существует эта раздражающая воображение двойственность истолкования его исходной фабулы» [Там же].
Действительно, по этому рецепту построены и многие произведения романтизма, где переход из сна в явь, из фантазии в реальность и обратно, настолько неуловим, что читателю остается только гадать, что привиделось героям, а что было «на самом деле». Так, например, словами Ф. Достоевского: «Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал “Пиковую даму” — верх искус -ства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, т. е. прочтя ее, Вы не знаете как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов» [13, с. 192].
С другой стороны, если фантастическое – всего лишь жанровая уловка, например, эзопов язык, намеренная аллегория, за которой встаёт самое что ни на есть реальное, легко узнаваемое читателем, только поднятое до уровня притчи, басни, фольклора, то оно будет восприниматься во вполне реалистическом ключе. Так шукшинская повесть «До третьих петухов» – о похождениях Ивана Дурака в сказочном царстве-государстве, обладающем всеми пороками советского бюрократизма, не оставляет сомнений в том, о каком именно государстве на самом деле идет речь. Многочисленные песни Высоцкого о лесной нечисти – того же жанрового корня.
Иное дело, когда фантастическим по сути объявляется метафизическое. Когда внутренняя, жизнь человека фигурирует в произведении литературы как нечто потустороннее, иррациональное, неподвластное человеческой воле, не входящее в осязаемую реальность ежедневности, в область объяснимого разумом.
Здесь берут начало философские споры между материализмом и позитивизмом с одной стороны и идеализмом с другой. И по этому же поводу довольно убедительно высказалась и русская классика – решительно стерев границу между воображаемым и реальным, показав совершенно осязаемую реальность нашего внутреннего мира, неиллюзорность наших духовных ценностей.
Как заметил Алексей Машевский о Пушкине, тот «был не только первооткрывателем реалистического метода, он был и первым, кто понял угрозу, скрывающуюся в подобном сугубо “реальном” взгляде на мир. <...> Новый метод, тяготевший к “объективной действительности”, вольно или невольно оставлял писателя без твердой этической почвы (на которой, например, незыблемо стоял классицизм). Человек оказывался лишенным подлинной свободы и целиком детерминированным обстоятельствами, а главное, при скрупулезном рассмотрении современности или исторической перспективы нигде не прослеживалось победное действие нравственных законов» [17], пишет А. Машевский.
«Получалось, что если подходить к миру как к лабораторному столу, на котором разложены определенные объекты, то наличие таких важных для нашей духовной сущности вещей, как совесть, честь, вера, любовь, героизм, справедливость, не подтверждается. Не подтверждается так, как, к примеру, подтверждается наличие стола или стула, на который я могу сесть. Могу встать, отвлечься, пойти гулять, вернуться - и снова обнаружить его на прежнем месте. Стул точно есть, его суще- ствование автоматично и независимо от меня. Но если теперь таким же способом попытаться “поймать” нечто, имеющее отношение к области духа, – например, героизм – нас постигнет разочарование. Нельзя, обнаружив в своей душе раскаяние, любовь или веру, пойти погулять, а вернувшись, застать их как бы “стоящими на месте”. Они есть только до тех пор, пока я их удерживаю. Я люблю лишь постольку, поскольку совершаю духовное усилие – любить. <…> совесть, добро, героизм – понятия, получающие свое значение лишь в человеческом (и не просто человеческом, а личностном) измерении» [17], делает вывод А. Машевский.
«Честность, скажем, существует в этом мире не вообще, не у кого-то там, а только тогда, когда я (именно я) сам поступаю честно» [Там же]. Таким образом, «духовная истина не существует сама по себе и рождается лишь моим возвышающим усилием внутри определенного рода обмана» [Там же], рассуждает А. Машевский о знаменитой фразе Пушкина про возвышающий обман. «Обмана, с точки зрения отстраненного наблюдателя, который, чтобы уверовать в героизм и любовь, сначала требует доказательств их наличия от других и только затем обращается к себе. Нет, так никогда не получится. Единственное надежное средство доказать существование добра в этом мире – это немедленно начать творить его самому» [Там же].
Подобным же образом рассуждала и русская философская мысль Серебряного века, для которой духовные сущности были чуть ли не реалистичнее стола или стула. Борис Вышеславцев, например, полемизируя с учением Фрейда, писал о том, что «сублимация есть возвышение над природой, выход за пределы природы, и в чистом натурализме – просто невозможна. У Платона она была возможна, ибо над Эросом и над природой есть мир идей; а у Фрейда? Для него, в сущности, как и для всякого натурализма и материализма, все “возвышенное”, есть иллюзия; индивидуальная любовь есть иллюзия (надстройка над сексуальным фундаментом); религия и любовь к Всевышнему – тоже иллюзия и тоже утонченная сексуальность. А что же не иллюзия ? Не иллюзия – сексуальное влечение и его нормальное удовлетворение. К этому сводится, в сущности, вся терапевтика и вся “мораль” Фрейда» [7, с. 189]. Семен Франк в этой связи отмечал, что «Психоанализ философски не справился с тем кладом глубинной душевной жизни, который он сам нашел. Плоскость его рационалистических и натуралистических понятий неадекватна глубине и иррациональности открытого им духовного материала» [22].
В том же ключе, русские классики понимали, что важнее всего жизнь духа, а не жизнь тела. Змея сбрасывает кожу, но остается собой. Как признавался даже Л. Толстой (называемый часто провид -цем тела!): «Как ни близко тело, оно все-таки чужое, только душа своя» [21]. (Того же корня, кстати, и его не совсем цензурные приватные замечания, записанные М. Горьким, о том, что страшиться следует только той женщины, которая держит тебя за душу, а не за что-либо другое! [9]). Оболочка может существенно видоизменяться (и современная биология тому подтверждение), но не в ней наша сущность.
Подобная иерархия ценностей, высшая реальность «эфемерного», «иллюзорного», к которому легко можно отнести духовное, ибо его нельзя увидеть и пощупать, - важная отличительная черта русской литературной и культурной традиции.
Герой шукшинского рассказа «Верую!» восклицает в тоске: «Но у человека есть также – душа! Вот она, здесь, - болит! <^> Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую - болит». И дальше осознает, что «никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет - требуха. Да и сам он не верил в такую-то – в кусок мяса. Стало быть, все это – пустые слова» [26].
Сродни этому вполне физическому, абсолютно реальному ощущению души и ощущение реальности человеческой совести. Фазиль Искандер пишет: «Интересный диалог в этом отношении был у нашего знаменитого священника-хирурга Войно-Ясеневского со Сталиным. Передаю суть. – Что это вы говорите – душа, душа. Ее нет. Ее никто не видел, – сказал ему Сталин. – Совесть тоже никто не видел, – отпарировал знаменитый священник-хирург, – но ведь вы не станете отрицать, что она есть. И Сталин промолчал. Не осмелился сказать, что и совести нет. В этом великая, непобедимая тайна совести» [14, с. 432].
Как писал Ф. Достоевский, метод которого впоследствии определили как фантастический реализм, соединив тем самым в одном термине как раз два интересующих нас и противопоставляемых концепта:
Совершенно иные понятия мы имеем о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! <^> Ихним реализмом сотой доли реальных, случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось!» [11, c. 390].
При этом в отличие от произведений действительно романтических и фантасмагорических - лермонтовского «Демона», гоголевского «Вия» - у Ф. Достоевского, как проницательно замечает Григорий Померанц, черт чуть ли не впервые органично вводится именно в реалистическое повествование! [19].
В дополнение к сказанному, смешение реализма с романтизмом, реального с фантастическим, характерное для утопий и антиутопий, претворяется в жизнь еще и самой жизнью, но не благодаря научно-техническому прогрессу, а благодаря тому, что, выражаюсь по-довлатовски, «жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту!» [10]. Появление Воланда, сатаны, в сталинской Москве полностью соответствует страшному кровавому карнавалу, развернувшемуся в то время в стране. Это ли не фантастическое, превзошедшее все помыслы Ф. Достоевского, и ставшее реальным! И запечатлеть эту фантастичность жизни Булгакову удается именно с помощью соразмерной ей мистерии.
Однако помимо фантастического жанра, романтического метода и идеалистического мироощущения существует и фантастичность иного рода. Так же, как рациональное и иррациональное не являются абсолютными категориями, а зависят от точки отсчета субъекта, от его на них взгляда, фантастическое тоже может быть порождением особого восприятия. И вместо зловещей тайны загробного мира, утопленников, мертвецов и потусторонних существ, в избытке представленных нам Гоголем, оказывается можно узреть таинственное и грозное, необъяснимое и устрашающее в самой жизни, вполне посюсторонней, совершенно обыденной – узреть и напугаться не на шутку – не смертью, повторяю, а жизнью. Как в рассказе А. Чехова «Страх»: «Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений и загробных теней? – Страшно то, что непонятно. – А разве жизнь вам понятна? Скажите: разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир? <^> Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как всё это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. <…> Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь» [23]. Страх Дмитрия Петровича передается и рассказчику: «Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают» [Там же].
Это подразумевает иной, особый взгляд на вещи, когда в обыденном открываются бездонные глубины (то, что так искусно умел Чехов и что Андрей Белый назвал пролетом в вечность [2, c. 839]). То есть, за привычным вдруг обнажается непривычное; незнакомое и загадочное, способное даже вызвать первобытный ужас. Это снова возвращает нас к тайне жизни и смерти, тайне существования, смысл которого нам неведом и в которое нас забрасывает волею судеб, без спросу и согласия. И чеховский герой, отрешившись от общей зашоренности, глядя свежим, незамыленным взглядом, вдруг прозревает эту загадку и бессмысленность. Там, где другими всё принимается как данность, он задает вопросы и шарахается в стороны в непонимании и изумлении. То есть, он действительно иначе видит! Но ведь это есть не что иное, как остранение, которое Шкловский определял как «создание особого восприятия предмета, создание “ви́дения” его, а не “узнавания”» [25]. Вещь при этом описывается как будто в первый раз увиденная и тем самым приобретает элемент фантастичности. Но для того, чтобы увидеть эту странность привычного, необходимо отступить от него, отстраниться, то есть, отойти в сторону и смотреть оттуда, снаружи, уже другим, новым взглядом, взглядом извне. Как в строках
Бродского, «что, в сущности, и есть автопортрет. Шаг в сторону от собственного тела» [4]. Этот шаг в сторону от «реального» и делает писатель, и с этих новых рубежей реальное вполне может потерять свои реалистические контуры и стать фантастическим.
Знаменательно, что эффект остранения, а с ним и фантастичности, возникает и когда нарушаются привычные свойства и границы предметов: камни оживают, звери и цветы начинают говорить человеческим голосом, нос коллежского асессора сбегает от своего владельца, чтобы зажить своей жизнью, то есть человеческое воображение, фантазия наделяет их новыми свойствами, расширяет их границы. Этот механизм создания фантастического, основанный на контрасте между реальностью и вымыслом нередко сходен с механизмом юмористического, смехового – которое зиждется на противоположности взаимосоотнесенных полюсов, на контрасте между правилом и исключением [1].
-
Н. Гоголь, например, владел этим искусством в совершенстве, без усилий осуществляя в метафоре переходы от реальности к фантазии и при этом к смеху. Даже чисто бюрократическую процедуру замены двойной фамилии Гоголь-Яновский на Гоголь он походя возвёл в веселую притчу: «Кончик моей фамилии я не знаю, где делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит, как свою собственность» [8].
Подобным же образом, по-новому глядя со стороны, можно окунуть и в мистическое, и тем самым сделать фантастичным, любой сюжет, любой интерьер, любого героя, будь они хоть сто раз обыденны. Всё зависит от угла зрения, от поставленной художественной задачи (и здесь мы, фактически, снова возвращаемся к Тодорову).
По сути, этот процесс происходит в поэзии, с ее многозначностью и метафоричностью, с ее способностью мгновенных перевоплощений, где простая тень на полу умеет обернуться чудовищем или балериной – по прихоти автора, если он умеет, как Н. Гоголь, опоэтизировать любой предмет. Поэзия фантастична сама по себе (как писал Ю. Лотман, «если бы существование поэзии не было бесспорно установленным фактом, можно было бы с достаточной степенью убедительности показать, что ее не может быть» [16, с. 45]), и дела ее рук – того же фантастического корня.
Как любой настоящий художник, Франц Кафка, например, верил, что магия разлита в самой жизни, она всегда рядом, ее не нужно создавать, ее нужно только распознать , вызвать, правильно назвать по имени. Но ведь это и есть тот шаг, что отделяет жизнь от искусства, от поэзии, от литературы! «Легко вообразить, что каждого окружает уготованное ему великолепие жизни во всей его полноте, но оно скрыто завесой, глубоко спрятано, невидимо, недоступно. Однако оно не злое, не враждебное, не глухое. Позови его заветным словом, окликни истинным именем, и оно придет к тебе. Вот тайна волшебства - оно не творит, а взывает» [15], писал Кафка. В том же ключе фантаст Рэй Брэдбери говорил: «Старайтесь увидеть мир – он прекрасней любой мечты» [6].
И знаменитые ахматовские строки «Когда б вы знали из какого сора...!» - о том же. О механизме превращения обыденного в поэтическое, читай: фантастическое. Как писал Достоевский в «Петербургских сновидениях в стихах и в прозе»: «Казалось <…>, что весь этот мир, <…> в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование...» [12, с. 3-4]. Здесь хочется прибавить - существование как писателя, как художника! Такую же фантасмагорию, то же описание художественного преображения действительности в искусство можно наблюдать и в «Театральном романе» Булгакова, и в довлатовской «Зоне», наконец, у Бродского: «превращенье крика в глухое толковище слов» [5]. Таким образом, для превращения реального в фантастическое, нужно только изменить оптику из обыденной на художественную, провернуть калейдоскоп – и те же стеклышки сложатся в совсем другой узор.
Из сказанного следует, что дихотомия фантастическое-реальное весьма относительна, упирается в терминологию, зависит от точки отсчета и художественных задач и намерений автора, границы здесь чрезвычайно размыты и подвижны, и вопрос наверное нужно ставить иначе - с позиций современных исследований мозга, с попыток понимания что есть человек, что есть наука, что есть вера, ибо представления о реальном и фантастическом постоянно видоизменяются, а в эпоху научно-технической революции, искусственного интеллекта и т. п. - меняются еще и с невероятной скоростью, с невиданным доселе ускорением. Стремительно наступает новая эра, цифровая, где вопрос будет ставиться уже не в рамках литературы, а, прежде всего, в рамках антропологии, и речь пойдёт не о границах и взаимоотношениях реального и фантастического, а о том, что есть человек вообще и выживет ли собственно литература и искусство в целом (в нашем современном их понимании, пока еще взятом из 20-го века)? Во второй половине которого И. Бродский писал о веке 19-м, что: «до этого момента его поэтов могли бы лучше понять их римские коллеги, чем мы. Век назад гораздо меньше стояло между человеком и его мыслями о самом себе, чем сегодня. И похоже, что он знал, как использовать эту близость. То есть, практически он знал о естественных и общественных науках не меньше, чем мы, однако он еще не стал жертвой этого знания. Он стоял как бы на пороге этого рабства, по большей части не догадываясь о надвигающейся опасности, настороженный, может быть, но свободный. Следовательно, то, что он может рассказать нам о себе, о своих душевных и умственных обстоятельствах, имеет историческую ценность в том смысле, что история – это всегда монолог свободных людей, обращенный к рабам» [3]. Теперь мы (качественно!) отделяемся уже не только от античности, но и от века 20-го. И фантастика с реальностью становятся неразличимы. Удержать это движение представляется невозможным, как невозможно удержать руками взлетающий самолёт. И вопрос, выживет ли человек как вид, остается открытым и, к сожалению, приобретает весьма зловещий оттенок.
И в этой связи мне хочется закончить своим стихотворением под названием «Апокалиптическое (из новейшей истории)». Хотя тематически оно и уже, чем рамки нашей темы, но тем не менее доходчиво иллюстрируют последний тезис:
Давай ладони подними к лицу.
И если долго смеживаешь веки,
Гудят в висках столетия, и реки
Бегут к такому близкому концу.
…Родившись при царе, она потом
Была отброшена в жестокие эпохи,
Как рыба в сéти, головой на строки,
И времени хватала воздух ртом...
И снова в глубину уходит всплеск...
Они сумели пережить тирана,
Но вслед за тем открывшаяся рана
Зловещий обнаруживает блеск.
И движется на нас издалека
Ихтиозавр, пойманный на блёсны
Железные, под шум многоколёсный,
И светятся экраны сквозь века.
Как сквозь иглу, продета жизнь одна, Жемчужной ниткою болтается на шее, А нас берут сачком из колыбели, Нас достают, как ракушки со дна.
Но скоро, скоро вздыбит океан, И в недрах непроглядныя пучины, Как щепки, канут следствия, причины, Останется один слепой экран Мерцать у вечности, как древняя лучина, Уйдя в туман.
Список литературы Реалистичность фантастического и фантастичность реалистического в русской литературе
- Аверинцев С. Связь времен. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedy-diary.ru/html/042011/11042011-05a.html (дата обращения: 19.10.2021).
- Белый А. Чехов // А.П. Чехов: Pro et Contra. Антология / под ред. И.Н. Сухих и А.Д. Степанова. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2002. С. 831–842.
- Бродский И. Предисловие к антологии русской поэзии XIX века (Foreword to An Age Ago. A Selection of Nineteenth-Century Russian Poetry. Farrar, Straus and Giroux, Inc., 1988), перевод Л. Лосева.
- Бродский И. На выставке Карла Веллинка. [Электронный ресурс]. URL: http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=7766 (дата обращения: 13.11.2021).
- Бродский И. Пенье без музыки. [Электронный ресурс]. URL: https://www.culture.ru/poems/30764/pene-bez-muzyki (дата обращения: 10.11.2021).
- Брэдбери Р. 451 градус по Фаренгейту. М.: Эксмо, 2011.
- Вышеславцев Б. Этика преображенного Эроса. Париж: YMCA-Press, 1931.
- Гоголь Н. Сочинения и письма Н.В. Гоголя: в 6 т. СПб.: Издание П.И. Кулеша, 1857. Т. 5. C. 144–146.
- Горький М. Лев Толстой. [Электронный ресурс]. URL: https://royallib.com/read/gorkiy_maksim/lev_tolstoy.html#20480 (дата обращения: 05.11.2021).
- Довлатов С. Зона // Собрание прозы: в 3 т. Т. I. СПб.: Лимбус-Пресс, 1993.
- Достоевский Ф. Собрание сочинений: в 15 т. СПб.: Наука. Ленинградское отделение, 1989–1996. Т. 15.
- Достоевский Ф. Петербургские сновидения в стихах и в прозе // Время. Журнал литературный и политический, издаваемый под ред. М. Достоевского. СПб.: Тип. Э. Праца, 1861. Январь. Отд. VI. С. 1–22.
- Достоевский Ф. Полное собрание сочинений: в 30 т. / АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом); [редкол.: В.Г. Базанов (гл. ред.), Г.М. Фридлендер (зам. гл. ред.), В.В. Виноградов и др.]. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972–1990 / Т. 30. Кн. 1. Письма, 1878–1881.
- Искандер Ф. Ласточкино гнездо. Проза. Поэзия. Публицистика. М.: Фортуна Лимитед, 1999.
- Кафка Ф. Дневники. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vehi.net/kafka/dnevnik.html (дата обращения: 09.11.2021).
- Лотман Ю. О поэтах и поэзии: анализ поэтического текста. Статьи и исследования. Заметки. Рецензии. Выступления. СПб.: Искусство-СПБ, 1996.
- Машевский А. Нас возвышающий обман. // Звезда. 1999. № 6. [Электронный ресурс]. URL: https://magazines.gorkymedia/zvezda/1999/6/nas-vozvyshayushhij-obman.html (дата обращения: 27.10.2021).
- Набоков В. Дар. [Электронный ресурс]. URL: http://www1.lib.ru/NABOKOW/dar.txt (дата обращения: 22.10.2021).
- Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. [Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=193521 (дата обращения: 10.11.2021).
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. [Электронный ресурс]. URL: https://modernlib.net/books/todorov_cvetan/vvedenie_v_fantasticheskuyu_literaturu/read_1/ (дата обращения: 01.11.2021).
- Толстой Л. Путь жизни. [Электронный ресурс]. URL: https://www.litres.ru/lev-tolstoy/put-zhizni/chitat-onlayn/page-2/ (дата обращения: 28.10.2021).
- Франк С. Психоанализ как миросозерцание // Путь. № 25. декабрь 1930.
- Чехов А. Страх. [Электронный ресурс]. URL: https://ilibrary.ru/text/1562/p.1/index.html (дата обращения: 12.11.2021).
- Шестов Лев. Афины и Иерусалим. М.: АСТ: Фолио, 2001.
- Шкловский В. О теории прозы. М.; Л.: Круг, 1925. С. 7–20.
- Шукшин В. Верую! [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ru/SHUKSHIN/veru.txt (дата обращения: 02.11.2021).