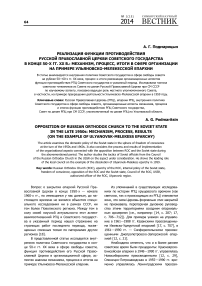Реализация функции противодействия Русской православной церкви советского государства в конце 50-х гг. ХХ в.: механизм, процесс, итоги в сфере организации на примере Ульяновско-Мелекесской епархии
Автор: Подмарицын Алексей Геннадьевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (15), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется внутренняя политика Советского государства в сфере свободы совести на рубеже 50-60-х гг. ХХ века, процесс и итоги реализации организационных аспектов функции противодействия РПЦ Советского государства в указанный период. Исследована тактика советских чиновников из Совета по делам Русской Православной Церкви при СМ СССР по изучаемому аспекту, показана ведущая роль местного уполномоченного Совета, в частности, на примере прекращения деятельности Ульяновско-Мелекесской епархии в 1959 году
Русская православная церковь (рпц), епархии рпц, внутренняя политика советского государства в сфере свободы совести, организационные аспекты механизма, процесса и итогов функции противодействия рпц советского государства, совет по делам рпц при см ссср, уполномоченный по делам рпц по ульяновской области
Короткий адрес: https://sciup.org/14113892
IDR: 14113892
Текст научной статьи Реализация функции противодействия Русской православной церкви советского государства в конце 50-х гг. ХХ в.: механизм, процесс, итоги в сфере организации на примере Ульяновско-Мелекесской епархии
Вопрос о закрытии епархий Русской Православной Церкви в конце 1950-х — начале 1960-х гг., по имеющимся у нас данным, до настоящего времени не являлся объектом специального исследования ни в рамках СССР, ни тем более Поволжского региона. Между тем в силу своей научной актуальности этот аспект взаимоотношений РПЦ и Советского государства в указанный период нашел отражение на страницах работ последнего периода, посвященных смежным темам по материалам других регионов [18].
В представленной статье исследуется внутренняя политика Советского государства в конце 50-х гг. ХХ века в сфере свободы совести, функция противодействия его Русской Православной Церкви в организационной сфере, аспектах анализа механизма, процесса и итогов на примере Ульяновско-Мелекесской епархии.
Из упоминаний в существующих исследованиях по истории РПЦ хрущевского времени (как светских, так и происходящих из РПЦ) становится ясно, что сама Церковь формально этих закрытий не признавала, перепоручая духовное руководство этими территориями соседним епархиальным архиереям (см., например: [14, с. 287; 17, с. 706—712]). Для примера укажем на управление в 1961—1988 гг. Казанскими преосвященными Ижевско-Удмуртской епархией [17, с. 707], в 1961—1990 гг. — Симферопольскими преосвященными Днепропетровско-Запорожской епархией [12, с. 21].
Необходимо отметить, что и в более раннее советское время были прецеденты: Красноярско-Енисейская епархия в 1948—1990 гг. управлялась Новосибирскими преосвященными [12, c. 29], Олонецко-Петрозаводская в 1955—1990 гг. временно управлялась Ленинградскими преосвя- щенными [12, с. 39], Пинско-Лунинецкая в 1959—1989 гг. временно управлялась Минскими преосвященными [12, с. 40], Сумско-Ахтырская епархия в 1959—1989 гг. временно управлялась Черниговскими архиереями [12, с. 46], Хабаровско-Владивостокская епархия в 1948—1988 гг. временно управлялась Иркутскими владыками [12, с. 51], Хмельницкая и Каменец-Подольская епархия в 1962—1990 гг. временно управлялась архиереями Винницкой епархии [12, с. 52].
Некоторые епархии были упразднены в послевоенное время. Великолукская и Торопецкая (1947—1957 гг.) была поделена между Калининской (Тверской) и Псковской кафедрами; Доро-гобычская и Самборская (1946—1959 гг.) вошла во Львовскую епархию; Измаильская и Болград-ская слилась с Одесской епархией; Петропавловская и Кустанайская (1957—1960 гг.) были соединены с Алма-Атинской, как и Семипалатинско-Павлодарская епархия (1947—1956 гг.) [12, с. 55—56].
Точно так же поступили и в 1959 году, когда через Совет по делам РПЦ при СМ СССР было принято решение о закрытии Ульяновско-Мелекесской епархии. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), авторитетный историк РПЦ ХХ столетия, в отношении осуществления управления означенной епархией Куйбышевскими преосвященными употребил термин «1959—1988 присоединена к Куйбышевской епархии» [17, c. 711]. Управление Куйбышевскими архиереями осуществлялось с 21 мая 1959 по 14 сентября 1989 года [12, с. 50].
Термин «присоединена» также был им использован в отношении епархий Петропавловской и Кустанайской (с 1960 г. — к Алма-Атинской), Хабаровской и Владивостокской (1958— 1988 гг. — к Иркутской), Челябинской и Златоустовской (1960—1988 гг. — к Свердловской) [17, с. 709, 711].
Таким образом, видно, что ни Священный Синод под председательством Патриарха Алексия I, ни архиерейский Собор РПЦ 1961 года, ни Поместный Собор РПЦ 1971 года никогда не издавали документов о закрытии поименованных епархий. Журнальными определениями Синода управление поручалось тому или иному архиерею близлежащей епархии.
В интересующий нас период с 28 января 1953 года епархией управлял архиепископ Иоанн (Братолюбов). Его уже отстраняли от управления Уфимской епархией в 1948 году с направлением на покой в Жировицкий Успенский монастырь за игнорирование «советов»
местного уполномоченного и своеволие (по мнению последнего) в церковном управлении [17, с. 383].
Уполномоченным Совета по Ульяновской области с 28 октября 1957 года состоял М. Кошман [1, л. 121]. Начало карьеры уполномоченный отметил рядом поступков, четко охарактеризовавших главные направления его служебной деятельности. Одним из них была пристальная опека правящего ульяновского архиерея.
Кошман М. в начале 1958 года получил «сигналы» о том, что домработница архиепископа Иоанна якобы организует верующих к выходу на реку в Крещенские праздники. Уполномоченный по телефону через благочинного вызвал ее к себе на беседу. Домработница явилась вместе с архиереем, которого Кошман оставил ждать в коридоре. С домработницей он беседовал в кабинете. Архиепископ, возмущенный нетактичным поведением уполномоченного Кошмана, послал в Совет по делам РПЦ при Совмине СССР жалобу [11].
По словам М. Кошмана, «в 1957—1959 гг. духовенство и особенно бывший епископ Брато-любов с уполномоченным мало считались, самовольничали, воровали из церковной кассы огромные суммы денег, нарушали законодательство о культах. Например, Братолюбов самовольно купил 4 легковых автомашины, 2 лошади, десятки домов, без разрешения отремонтировал почти все храмы, принимал десятки новых лиц из числа духовенства без согласования с уполномоченным, многих посвятил в сан, требовал открытия новых церквей, всю область разделил на 19 приходов, т. е. соответственно наличия в то время храмов, обязал духовенство разъезжать по сёлам, активно подогревал паломничество» [7, л. 33].
С подачи уполномоченного недовольная часть епархиального духовенства, используя мирян и членов выборных приходских органов, составила несколько писем на имя Патриарха Алексия I, в которых они обвинили архиепископа Иоанна в своих собственных преступлениях. Извращая действительность и превращая в противоположность грязные факты, они самочинно (но с подачи уполномоченного) объявили о выходе из Ульяновской епархии и присоединении к Куйбышевской под формальным предлогом равного расстояния [7, л. 68—72]. На это ушла часть 1958 и начало 1959 года. Со своей стороны, уполномоченный занимался проволочками в предоставлении права верующим на построение сгоревшей церкви в с. Голодяевке [2, л. 31—32], специально инструктировал местных советских работников по затягиванию решения этого вопроса [3, л. 36—36 об.], не чужд он был и открытых интриг (отказ от своих собственных обещаний, прямой шантаж духовенства епархии, предложения снять сан, духовенству — убеждать верующих не посещать церковь (?!)) [17, с. 383].
В определенных случаях уполномоченный покрывал прямые преступления наемных церковных работников (из числа обслуживающего персонала), имея в виду «полезность» этих людей. Так, на требовании чиновников из городского отдела социального обеспечения принудить к возврату в госбюджет незаконно полученных пенсий тремя пенсионерами, подрабатывающими в качестве обслуживающего персонала двух ульяновских храмов, М. Кошман сделал письменную помету: «Консультировался по удовлетворению. Нельзя, т. к. невыгодно для дела» [6, л. 51].
2 апреля 1959 года в беседе с Патриархом Алексием I председатель Совета по делам РПЦ при СМ СССР Г. Карпов обвинил архиепископа Иоанна в том, что тот в беседах с уполномоченным повышает голос и не прислушивается к его советам, и указал на аналогичное поведение архиерея перед устранением его от управления Уфимской епархией в 1948 году. Карпов рекомендовал Патриархии объединить Ульяновскую епархию, в которой всего 17 церквей, с Куйбышевской, а самого Иоанна отправить на покой [17, с. 383].
Старший инспектор Совета по делам РПЦ при СМ СССР Костылёв, проверявший летом 1962 года деятельность уполномоченного Совета по Ульяновской области М. Кошмана, отметил грубость последнего по отношению к верующим и духовенству. Со слов самого Кошмана, проверяющий характеризовал его как «безответственного работника, не знающего положения дел, и грубого человека» [7, л. 35].
Вот свидетельство самих верующих, почерпнутое из неоднократных писем и заявлений областным, республиканским, общесоюзным властям и партаппаратчикам.
«Тов. Костылев приезжал в Ульяновск к т. Кошману… быв. уполномоченному… Наши верующие Крайнова и Черкасова ждали от тов. Костылёва хороших результатов, а он просидел у него в кабинете как на мянинах, набрал в рот воды и промолчал, а бывший Кошман в присутствии т. Костылёва до того разорался в своём кабинете на этих верующих, чуть не лопнул, и выгонял их», — так описывали прием уполномоченным представителей верующих с. Ивановки [8, л. 73 об.].
Сам уполномоченный так характеризовал свою деятельность: «Хочу прямо сказать, что меня роль предыдущих работников как уполномоченных по делам церкви — «наблюдать и информировать» — с первых дней в этой должности совершенно не удовлетворяла. Поэтому я старался в корне изменить функции уполномоченного, придать им наступательный характер. Этого требовали с меня партийно-советские органы, сама жизнь и мои чувства атеиста» [7, л. 32].
Несколько штрихов о событиях, предшествовавших закрытию епархии и отстранению архиепископа от управления ею.
В начале 1959 года отношения архиерея и уполномоченного крайне обострились. Владыка подал письмо Святейшему с подробнейшим перечислением пунктов разногласий с уполномоченным. В начале апреля Патриарх на приёме у Карпова получил от последнего ответ, что жалобы не подтвердились и что архиепископа Иоанна нужно отправить на покой, а епархию соединить с соседней, Куйбышевской [17, с. 383]. В Ульяновск посылается епископ Дмитровский Пимен для всестороннего изучения спорных вопросов. Одновременно от Совета по делам РПЦ при СМ СССР был послан М. Рогачёв, занимавший в то время должность ст. инспектора [13, с. 426]. Епископом Пименом был подан доклад Патриарху, который с резолюцией последнего отослан для ознакомления Ульяновскому преосвященному.
Доклад не сохранился, однако в делопроизводстве Кошмана есть копия письма архиепископа Патриарху от 27 апреля 1959 года [4, л. 12—13 об.]. 78-летний святитель извещает 82-летнего Предстоятеля, что «нормальные хорошие отношения, всегда бывшие между нами, вполне возстановились благодаря преподанному руководству приезжавшим из Москвы начальником Рогачевым, а также и визиты Ваших представителей окончательно все привели в нормальное понимание и состояние» [4, л. 12]. Далее владыка Иоанн по существу разбирал указанные в докладе Дмитровского преосвященного негативные происшествия.
К ним относились: не вовремя поданные Кошману списки членов двадцаток; непредос-тавление уполномоченному копии распоряжения Патриарха «относительно неправильных паломничеств»; сравнительно частое перемещение духовенства и назначение оного без пожеланий верующих; самовольное построение гаража при церкви с. Оськино; постройка молитвенного дома в с. Лава Сурского района якобы без надлежаще оформленных документов, на что архиепископ заметил: «При беседе моей с уполномоченным Кошманом М. относительно сего он сказал: “Епископ Пимен недопонял меня"» [4, л. 12 об.—13].
Во всяком случае, даже при сочувственном понимании Патриархии положения дел в Ульяновской епархии было ясно, что советские власти не пойдут на попятную, имея возможность устранить престарелого, сломленного иерарха, а заодно ликвидировать одну из европейских епархий.
Как вспоминал М. Кошман: «Когда Братолю-бова я начал призывать к порядку, то он без конца стал на меня жаловаться в Москву. Кончилось тем, что он в 1959 году был снят» [7, л. 33].
«Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Алексия в заседании 21 мая 1959 года постановил: …8. Освободить архиепископа Иоанна, согласно его прошению, по болезни от управления Ульяновской епархией с увольнением его на покой» [9, с. 29].
Восьмидесятилетнего старика через год выселили из церковного дома, который был сдан в доход государства. Последние семь с половиной лет он доживал в двух комнатках крохотного домика, деля его с приходской канцелярией. Современник архиепископа Иоанна историк Русской Церкви советского времени, митрополит Мануил (Лемешевский) в своем «Каталоге» характеризует его как «человека необычайно молчаливого и с большими странностями. По-видимому, он временами юродствует, но... в нем видны солидные богословские знания и серьезный ум» (цит. по: [17, с. 383]). Современный историк прот. Владислав Цыпин добавляет к характеристике исповедника архиепископа Иоанна: «Возможно, юродство в те годы было не только подвигом, но и средством самозащиты и выживания» (Там же).
Скончался архиепископ Иоанн (Братолю-бов) на 86-м году жизни 27 февраля 1968 года. Он был погребен на Воскресенском кладбище г. Симбирска [10, с. 17].
Одновременно уполномоченный М. Кошман в мае-июне 1959 года провел ряд мероприятий, приведших к закрытию Казанского кафедрального собора г. Ульяновска, использовав пребывание в городе члена Совета по делам РПЦ при СМ СССР И. И. Сивенкова [2, л. 61].
Епископ Куйбышевский Митрофан (Гутов-ский) через своего секретаря А. А. Савина начал проводить прием дел и входить в управление Ульяновской епархией. К сожалению, кончина владыки Митрофана (12 сентября 1959 г.) прервала этот процесс. Среди его бумаг, сохранив- шихся в Самарском епархиальном архиве, есть составленный секретарем и одобренный епископом (летом 1959 г.) план разрешения вопросов, возникших из-за закрытия епархии и Кафедрального собора [15, л. 1].
Престолы и жертвенник были разобраны и сожжены. Ризница, утварь, иконы и другие предметы в основном были переданы в Неопалимовскую церковь, а частично в Кладбищенскую. Духовенство закрываемого храма было перераспределено по двум оставшимся в городе храмам. Обслуживающий персонал, церковный совет и певчие были рассчитаны с выдачей двухнедельного заработка. Принадлежавшие дома и автомашины также были по согласованию распределены между городскими храмами (Там же). Через полтора года уполномоченный Кошман заставил передать дома и машины государству [5, л. 47].
Таким образом, насильственное смещение епархиального архиерея, ликвидация епархиального управления и закрытие Кафедрального собора привели к вымыванию из сознания понятия «Ульяновская епархия». В тех же наметках епископа Митрофана летом 1959 года впервые появилось предложение сделать одно благочиние [15, л. 1]. Вступивший после смерти епископа Митрофана в управление Куйбышевско-Сызранской епархией (и, соответственно, присоединенной к ней Ульяновско-Мелекесской) архиепископ Саратовский и Сталинградский Палладий (Шерстен-ников) издал в октябре 1959 года Указ № 165 об объединении церквей Ульяновской области в одно благочиние [16, л. 14]. Через некоторое время во внутриепархиальных документах утвердилось наименование «Ульяновское благочиние».
Начавшиеся очередные репрессии против церкви и духовенства для Симбирского региона выразились в сокращении на 2/3 численности духовенства и почти на 1/4 количества действующих храмов [7, л. 28—30].
В результате применения административнозапретительных мер советским властям удалось на рубеже 1950—60-х гг. добиться известного сокращения числа епархий и количества правящих архиереев. Как правило, такие епархии переходили под управление епископов соседствующих епархий. Такая судьба постигла в 1959 году и Ульяновско-Мелекесскую епархию.
В результате поддержки из Москвы спланированной уполномоченным Совета по делам РПЦ при СМ СССР по Ульяновской области М. Кошманом клеветнической кампании был отстранен правящий архиепископ Иоанн (Брато-любов). Епархия территориально была присое- динена к соседней Куйбышевско-Сызранской на правах благочиния.
РПЦ никогда не признавала де-юре фактически состоявшееся закрытие Ульяновско-Ме-лекесской и иных епархий в данный период. Таким образом, руководство церкви исходя из реально сложившейся общественно-политической ситуации в СССР пассивно противодействовало решениям и действиям Советского государства. Последние явно выходили за рамки правового поля, определенного конституционной нормой отделения церкви от светского государства, то есть носили противоправный, антиконституционный характер и нарушали принцип социалистической законности в деятельности советских органов и должностных лиц «курирующих» РЦП, но реализовывали «вульгарные» политические установки руководства коммунистической партии и государства в анализируемой сфере.
-
1. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 30.
-
2. ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д.39.
-
3. ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д.41.
-
4. ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д.44.
-
5. ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д.46.
-
6. ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д.51.
-
7. ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д.58.
-
8. ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д.72.
-
9. Журнал Московской Патриархии (ЖМП). 1959. № 6.
-
10. ЖМП. 1968. № 5.
-
11. Информписьмо Совета по делам РПЦ при СМ СССР от 13 августа 1958 г. Ксерокопия из архива автора.
-
12. Киреев А., протодиакон. Епархии и архиереи Русской Православной Церкви. М., 2002.
-
13. Подмарицын А. Г. Уполномоченные Совета по делам Русской Православной Церкви при СМ СССР (1943—1965 гг.). Самара, 2012. Рукопись.
-
14. Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 1995.
-
15. Самарский епархиальный архив (СЕА). Ф. 1. Оп. 1.11. Д. 416.
-
16. СЕА. Ф. 1. Оп. 1.11. Д. 419а.
-
17. Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917— 1997. М. : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997.
-
18. См.: Михайловский А. Ю. Взаимоотношения власти и Русской Православной Церкви в 1943— 1965 гг.: на материалах Рязанской области : дис. ... канд. ист. наук. Рязань, 2011; Смирнова О. С. Деятельность института уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви в 1944— 1965 гг.: на материалах Верхнего Поволжья. Иваново, 2010; Грашевская О. В. Политика Советского государства в отношении Русской Православной церкви в 1940—1980-х гг.: центр и местные власти: на материалах Мурманской области. Мурманск, 2005; Шкуратов С. А. Взаимоотношения Советского государства и Русской православной церкви в 40—60-е годы XX века. М., 2005; Макарова Е. А. Взаимоотношения государственных органов власти и Русской православной церкви в 1940—1960-е гг. XX века: на материалах Ставропольского края. Ставрополь, 2008 и др.
Список литературы Реализация функции противодействия Русской православной церкви советского государства в конце 50-х гг. ХХ в.: механизм, процесс, итоги в сфере организации на примере Ульяновско-Мелекесской епархии
- Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 30.
- ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 39.
- ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 41.
- ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 44.
- ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 46.
- ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 51.
- ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 58.
- ГАУО. Ф. Р-3705. Оп. 1. Д. 72.
- Журнал Московской Патриархии (ЖМП). 1959. № 6.
- ЖМП. 1968. № 5.
- Информписьмо Совета по делам РПЦ при СМ СССР от 13 августа 1958 г. Ксерокопия из архива автора.
- Киреев А., протодиакон. Епархии и архиереи Русской Православной Церкви. М., 2002.
- Подмарицын А. Г Уполномоченные Совета по делам Русской Православной Церкви при СМ СССР (1943-1965 гг.). Самара, 2012. Рукопись.
- Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 1995.
- Самарский епархиальный архив (СЕА). Ф. 1. Оп. 1.11. Д. 416.
- СЕА. Ф. 1. Оп. 1.11. Д. 419а.
- Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917-1997. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997.
- Михайловский А. Ю. Взаимоотношения власти и Русской Православной Церкви в 1943-1965 гг.: на материалах Рязанской области: дис.. канд. ист. наук. Рязань, 2011;
- Смирнова О. С Деятельность института уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви в 1944-1965 гг.: на материалах Верхнего Поволжья. Иваново, 2010;
- Грашевская О. В. Политика Советского государства в отношении Русской Православной церкви в 1940-1980-х гг.: центр и местные власти: на материалах Мурманской области. Мурманск, 2005;
- Шкуратов С. А. Взаимоотношения Советского государства и Русской православной церкви в 40-60-е годы XX века. М., 2005;
- Макарова Е А. Взаимоотношения государственных органов власти и Русской православной церкви в 1940-1960-е гг. XX века: на материалах Ставропольского края. Ставрополь, 2008