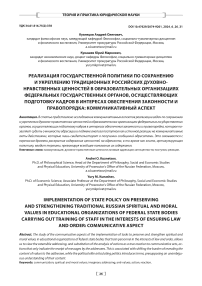Реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательных организациях федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обеспечения законности и правопорядка: коммуникативный аспект
Автор: Кузнецов А.О., Кунашев Ю.М.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 6 (81), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлено исследование коммуникативных аспектов реализации задач по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей в образовательных организациях федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обеспечения законности и правопорядка, которое позволяет судить о мнимости адресации и подмене анализа поступков как истинной реакции на коммуникативные акты действиями, которые лишь свидетельствуют о получении сообщений адресатами. Это связывается с переносом бремени раскрытия содержания ценностей на адресанта, в то время как элита, артикулирующая политику, вводит термины, презюмируя всеобщее понимание их содержания.
Коммуникация, духовно-нравственные ценности, мнимая адресация, антиценности, поступок, реакция
Короткий адрес: https://sciup.org/14132237
IDR: 14132237 | УДК: 34.01:316.75(2):378 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_6_26_31
Текст научной статьи Реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательных организациях федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обеспечения законности и правопорядка: коммуникативный аспект
О бострение геополитического соперничества обусловливает наращивание усилий государства по укреплению суверенитета, что проявляется не только в отладке правовых, финасово-экономических, технологических основ его обеспечения, но и возведении (ремонте, реконструкции и др. – предлагается читателю самому выбрать наиболее подходящий термин – прим. авт. ) мировоззренческого фундамента. Это закономерно приводит к тому, что истеблишмент1 активнее формирует ценностную повестку, направленную на вытеснение иных агентов влияния.
В ответ на политическое, экономическое и культурное давление на Россию произошло переосмысление важности воспитательного компонента в образовательной деятельности в целом. Характерной чертой этого переосмысления стал переход от дискуссии к интенсивному наращиванию практических усилий по увеличению объемов и совершенствованию способов подготовки контента ценностноориентированной направленности к организации и проведению мероприятий на основе такого контента.
Проходя через фильтры общественной дискуссии и законотворчества, векторы стратегического развития, намеченные политической элитой, эволюционируют в цели и в дальнейшем – в задачи государственных органов, находя свое воплощение в программных документах2.
В статье исследованы коммуникативные аспекты реализации таких задач в образовательных организациях федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обеспечения законности и правопорядка. В рамках данного исследования совокупность названных выше организаций для краткости будет именоваться «ведомственные вузы».
Основная часть
Во второй декаде XXI века в научном и практическом дискурсе дискуссионными оставались идеи, связанные с мерой вовлечения преподавателя высшей школы в воспитательный процесс, определения его роли в нем3. После изменений, внесенных в Фе- деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в июле 2020 года, уместность воспитательной работы в вузе, кажется, всё меньше подвергается сомнению. Настало время обсуждения механизмов, способов и приемов взаимодействия педагогов вузов со студенчеством в сфере духовно-нравственного воспитания.
При этом отсутствие единообразных требований и универсальных нормативов (параметров) в сфере реализации неакадемических задач , к которым относится воспитание и укрепление ценностно-мировоззренческих взглядов молодежи, в целом позволяет наблюдать следующее.
Коммуникативная неопределенность и своего рода «дефицит ясности» провоцирует управленцев всех уровней проявлять бесконтрольный энтузиазм, демонстрируя отклик на запрос путем поиска новых возможностей создать с нуля или адаптировать под соответствующий формат духовно-нравственного воспитания мероприятия и меры, направленные на формирование у студентов заявленных ценностей. Это может приводить к раздуванию соответствующих планов, потому что таких усилий никогда не будет достаточно: ценности ненасыщаемы.
Кроме того, поскольку силы студенческого сообщества исчерпаемы, в определенный момент отдельные его представители выказывают недовольство увеличением совокупной нагрузки за счет мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания. Те студенты, которые приучены капиталистическим характером отношений и школьными программами развития экономической и финансовой грамотности к рациональному распределению времени, воспринимают обучение в вузе как период инвестирования своих интеллектуальных, физических, социальных и иных ресурсов в создание потенциала, который в перспективе должен быть конвертирован в устойчиво растущее качество жизни. По этой причине восприятие ими мероприятий, выходящих за рамки процесса обучения, может быть настороженным, отношение – негативным, а в некоторых случаях переходить в деятельное неприятие. Студенты с высоким уровнем юридической грамотности способны ставить вопрос о правомерности привлечения методами административного принуждения к участию в мероприятиях духовно-нравственной направленности.
проблемы, 2012, а также другие авторы, следуя за своими научными предшественниками (Гидденс Э. Социология, 1999, и др.), уделяют внимание оценке той роли, которую в воспитательном процессе играет преподаватель вуза, указывая на ее высокую важность, и описывая ее. Правовой механизм закрепления этой роли сводится к формулированию задач, которые ставятся перед преподавателями руководством вузов или ведомств, в системе и в интересах которых те или иные вузы осуществляют свою деятельность.
Специальные задачи в сфере духовно-нравственного воспитания были формализованы посредством включения новых элементов в системы и инструменты планирования деятельности. Так, например, в прокуратуре Российской Федерации границы и инструменты ведения воспитательной работы не создавались с нуля, соответственно, расширялись и дополнялись с помощью внесения изменений в действующие организационно-распорядительные документы и путем издания новых4.
В ведомственных вузах масштабная воспитательная работа велась и раньше, поэтому продвижение инициатив в сфере духовно-нравственного воспитания, внедрение соответствующих задач в планы работы разных уровней «поверх» устоявшейся системы распределения академической и иной нагрузки не встретило и не могло встретить открытого сопротивления. Это стало еще одним подтверждением того, что более высокий уровень детерминации оставляет меньше пространства для дискуссии. При этом нельзя утверждать, что опыт непрерывной воспитательной работы, характерный для ведомственных вузов, является гарантией разрешения намеченных выше проблем: изнуряющего административного рвения и усиливающегося студенческого неприятия.
На наш взгляд, одно связано с другим, а всё вместе – с изначальной коммуникативной неопределенностью.
Наращивание усилий, направленных на продвижение духовно-нравственных ценностей, не может происходить вне анализа коммуникативных особенностей этого процесса, поскольку содержание и реализация коммуникативного акта обесценивается адресатом, если такой коммуникативный акт не опирается на понимание предпочтений и ожиданий.
В отличие от правопросветительской комму-никации5, которая во многих своих проявлениях аналогична вещанию, предполагающему, что адресат вправе отказаться от приема адресуемого ему сооб-щения6, поскольку механизмы принуждения или отсутствуют совсем, или оставляют возможность лишь формально подтвердить получение сообщения, воспитательная работа в духовно-нравственной сфере, проводимая преподавателями ведомственных вузов, выстраивается как на основе добровольности участия, так и на основе побуждения, за которым стоит в целом детерминированная система отношений.
По мнению авторов, в основе конфликта прагматики между адресантом и адресатом сообщения лежит разнонаправленность интересов: решая поставленную государством задачу, администрация ведомственных вузов зачастую организует коммуникацию таким образом, что обучающиеся не соотносят ее с получением профильных знаний, процессы обучения и воспитания самими студентами часто рассматриваются как изначально плохо совместимые. Если эти задачи встраиваются в образовательный процесс и их значимость для последующей профессиональной реализации может быть установлена и оценена самим обучающимся, то студенты реагируют на такие коммуникативные акты, воплощенные в мероприятиях, более благожелательно. И напротив, если в контенте какого-либо мероприятия7 адресаты не усматривают непосредственную связь с изучаемыми дисциплинами, то, руководствуясь пониманием субординации в системе, имитируют «консумацию» контента, хотя адресантами такой контент мыслился как личностно значимый и создавался в целях оказания эмоционального воздействия.
Целью государственно-патриотического вос-питания8, имеющего некоторое сходство с просветительской деятельностью, остается влияние на личность. Достижение этой цели напрямую обусловлено мерой заинтересованности, то есть готовностью слушателя идентифицировать себя частью сообщества, разделяющего провозглашаемые ценности9. В этом случае уместным становится вопрос о выборе инструментов контроля или измерения результатов такого воздействия. Ясно, что учет посещения мероприятий или иного участия, то есть факт приема сообщения, как его описывает кибернетическая теория коммуникации10, не позволяет сделать вывод, насколько эффективным было то или иное воспитательное воздействие, поскольку релевантным откликом на коммуникативный акт воспитательной направ- ленности должно являться определенное действие, которое, вероятно, не было бы совершено, если бы адресат не был участником подобной коммуникации. Но в самом коммуникативном акте адресат не в состоянии предъявить в качестве реакции (а адресант – засвидетельствовать) ценностно обусловленный поступок, так как эффект воспитания всегда отложен и ситуативен.
В такой практике коммуникации естественной реакцией адресата является подтверждение факта приема сообщения (простое действие), а не поступок, предполагаемый содержанием сообщения.
Это обстоятельство заставляет усматривать мнимость адресации применительно к коммуникативным актам в границах воспитательной работы в духовно-нравственной сфере. В отличие от мнимости адресации правопросветительской коммуникации, когда контент может не соответствовать запросу целевой аудитории, и в пользу мнимости свидетельствует отсутствие реакции адресанта на игнорирование этих сообщений адресатом, в случае с воспитательной работой основная проблема состоит не в контенте как таковом, а в неуместности мгновенной реакции в виде поступка – действия, позволяющего сколь-либо достоверно судить о сформированности ценности11.
В рамках настоящей статьи под духовно-нравственным воспитанием понимается совокупность коммуникативных актов, направленных на формирование ценностей. В качестве цели духовно-нравственного воспитания рассматриваются поступки, которые должны совершаться воспитуемыми. Коммуникативная реакция адресата будет называется поступком. Само духовно-нравственное воспитание в этом случае можно представить как совокупность коммуникативных актов, нацеленных на получение реакции в виде поступков, которые должны совершаться воспитуемыми. Упрощенная схема инициации таких актов может быть описана следующим образом: заказчик (политическая элита государства) порождает нормативную основу, инструктирует адресанта и задает условия для реализации этих актов. Адресант (администрация, педагогический коллектив ведомственного вуза) организует и запускает акты, целью которых является утверждение некоторых ценностей у адресата (обучающихся).
При этом организационные возможности такой коммуникации позволяют в качестве реакции фиксировать не поступки, а лишь действия, то есть индикацию приема сообщения или уклонение от приема. Адресант, за отсутствием иных возможностей, репрезентирует такие действия в качестве реакции на коммуникацию. И поскольку истинной реакцией являются поступки, а механизмами их контроля адресант не располагает, то, оставаясь частью детерминированной системы, адресант учитывает количество коммуникативных актов и число адресатов, которые подтвердили «консумацию» содержания или формы коммуникативного акта, и «рапортует» в границах существующей иерархии. Не происходит различение действия12 и поступка. Действия выдаются за поступки и учитываются адресантом.
Кажется, что в основе фиксируемого неразличения лежит та самая коммуникативная неопределенность, о которой упоминалось выше. Чтобы кратко проиллюстрировать этот тезис, обратимся к одному из программных документов, задающих направления и определяющих границы концепта «традиционные российские духовно-нравственные ценности», – Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей (далее – Основы).
В Основах не раскрывается содержание понятий (соответствующих определенным ценностям), а происходит их закрепление преимущественно терминологически с установлением двух родовых категорий действий ( сохранение , укрепление ), заявляемым как ответ на воздействие, противоречащее интересам государства и потому именуемое «деструктивным». Использование терминов сохранение и укрепление , на наш взгляд, презюмирует наличие перечисленных ценностей в структуре мировоззрения граждан России. Этот тезис постулируется в тексте документа.
Таким образом, государство номинирует ценности жизни , достоинства , прав и свобод и др . , но не поясняет, в чем эти ценности заключаются; вырабатывая политику по их сохранению и укреплению13 , оно отдает наполнение их содержанием на откуп коммуникантам.
В настоящей статье сделана попытка смоделировать отдельные варианты поступков или моделей поведения, которые бы свидетельствовали о сфор-мированности таких ценностей. Так, например, с традиционной ценностью жизнь может ассоциироваться устойчивый (тотальный) самозапрет на самоубийство или на убийство, в том числе аборт и эвтаназию, осознанное причинение вреда здоровью, стремление к повышению качества жизни. Термин крепкая семья представляется более сложным для истолкования че-резсовокупностьдействий. Возникает вопрос,сводим ли он к такому набору идей, как общий самозапрет на расходование доступных ресурсов за пределами или без участия семьи и частный тотальный самозапрет на супружескую измену? Попытка интерпретировать смысл словосочетания созидательный труд наталкивает на мысль о плеоназме, поскольку идея труда неизменно связана с созиданием, а не с разрушением.
В номинативной части Основ производится обзор ценностей(п. 4) и «антиценностей»(п.п.14, 17), при этом их сопоставление позволяет увидеть, что группа антиценностей представляет собой перечисление действий в отношении антиценностей ( культивирование , отрицание идеалов , разрушение… с помощью пропаганды ), в то время как в первой группе встречаются всего три слова, непосредственно соотносимые с действием, – служение , взаимопомощь , взаимоуважение – и в некоторой степени слово труд . Все остальные слова указывают на состояния или абстракции, содержание которых не сводимо к единству действия.
Вот еще один пример затруднения, с которым неизбежно столкнутся участники коммуникации. В п.15 дается прагматическое объяснение политики через установление связи между идеологическим воздействием извне и демографической ситуацией. Однако из текста только этого документа невозможно установить, какая именно ситуация является для государства благо-приятной14. Поэтому и в коммуникативных актах, нацеленных на формирование ценностей, адресанты могут опираться лишь на широкие формулировки, например: способствовать сбережению и приумножению народа России, сохранению общероссийской гражданской идентичности, развитию человеческого потенциала .
Такие терминологические решения являются недостаточными для осуществления продуктивной коммуникации: если воспитатель добивается совершения поступка (или отказа от совершения поступка), то он сам должен как минимум знать, в чем этот поступок должен и может заключаться, и побуждать к его совершению или к отказу от его совершения. В противном случае не будет связи между усилием воспитателя и поведением воспитуемого. Если рассматривать задачу такого коммуникативного акта как определенную (то есть желаемую, ожидаемую и предсказуемую) реакцию, то эта задача не будет и не может быть решена. Так, например, такая ценность, как историческая память, может «упаковываться» недоумевающим адресантом в практику возложения цветов, которая адресатом воспринимается как действие с «искаженной прагматикой», предполагающее участие15, а не поступок (например, поздравить с праздником, пожелать здоровья, проявить заботу о пожилом человеке вне зависимости от наличия у него государственных наград, опыта защиты Родины с оружием в руках и др.), хотя по замыслу адресанта возложение цветов должно порождать эмоциональный отклик и укреплять желание совершать поступки. Действительно, нравственные ориентиры должны служить инструментом при разрешении этических дилемм, о которых в документном тексте просто невозможно говорить. Да и официально-деловой стиль едва ли может быть пригоден для обращения с такой проблематикой16.
Выводы
Представляется возможным сделать вывод, что в процессе коммуникации (осуществления коммуникативных актов, нацеленных на формирование духовно-нравственных ценностей) функционеров и педагогов ведомственных вузов со студенчеством адресантом не учитываются, в силу невозможности их наблюдать, поступки, являющиеся истинной реакцией на коммуникацию.
Коммуникативные практики ведомственных вузов подтверждают гипотезу, что адресант учитывает только количество адресатов и действий, свиде-тельствующихотом, что порожденноеадресантомсо-общение было получено адресатом. Таким образом, в процессе планирования, реализации и контроля происходит подмена интереса к реальному поступку интересом к «техническому» отклику, что позволяет в этом случае допустить мнимость адресации.
Представляется, что эффективная коммуникация о ценностях средствами официально-делового стиля затруднена; поэтому отказ от использования таких средств во всех случаях будет признаваться содействующим, а не препятствующим достижению коммуникативных задач.
Список литературы Реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательных организациях федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обеспечения законности и правопорядка: коммуникативный аспект
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/(дата обращения: 24.10.2024).
- Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809) [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 24.10.2024).
- Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения (утв. Указом Президента РФ от 08.05.2024 № 314) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/84653.html (дата обращения: 24.10.2024).
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [Электронный ресурс]. URL: http://publication. pravo.gov.ru/document/view/0001202007310075 (дата обращения: 24.10.2024).
- Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 (ред. от 21.07.2023) «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62680/(дата обращения: 24.10.2024).
- Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2022 № 510 (ред. от 27.11.2024) «Об утверждении Концепции совершенствования системы государственно-патриотического воспитания в прокуратуре Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426773/(дата обращения: 24.10.2024).
- Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики: пер. с англ. Х.: Гуманитарный центр, Науменко А.А., 2015. 688 с.
- Кузнецов А.О., Кунашев Ю.М. Правопросветительская коммуникация прокуратуры России: к вопросу о мнимости адресации // Вестник Академии права и управления. 2023. № 4.1 (75). С. 22-27.
- Кузнецов А.О., Чесноков Н.А. Формирование качеств личности обучающихся в аспирантуре Университета прокуратуры Российской Федерации // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2022. № 2 (88).С. 102-108).