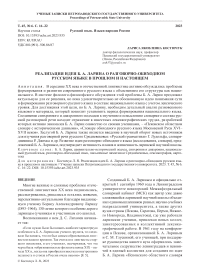Реализация идеи Б. А. Ларина о разговорно-обиходном русском языке в прошлом и настоящем
Автор: Костючук Л.Я.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 6 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
В середине XX века в отечественной лингвистике активно обсуждались проблемы формирования и развития современного русского языка с объяснением его структуры как национального. В системе филолого-философского обсуждения этой проблемы Б. А. Ларин предложил актуальную для ее решения, но пока удовлетворительно не обоснованную идею понимания сути и формирования разговорного русского языка в составе национального языка с учетом лексического уровня. Для достижения этой цели, по Б. А. Ларину, необходим детальный анализ разновекового языкового материала, который позволит установить период формирования национального языка. Соединение синхронного и диахронного подходов к изучению и осмыслению словарного состава русской разговорной речи находит отражение в известных лексикографических трудах, разработкой которых активно занимался Б. А. Ларин совместно со своими учениками, - «Псковском областном словаре с историческими данными», «Словаре обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII веков». Заслугой Б. А. Ларина также является введение в научный оборот новых источников для изучения разговорной речи русского Средневековья: «Русской грамматики» Г. Лудольфа, словаря-дневника Р. Джемса и др. Развитие идеи разговорно-обиходного языка (исследования, словари), предложенной Б. А. Лариным, подтверждает истинность планов и жизненность ларинской научной школы.
Б. а. ларин, сравнительно-исторический подход, синхрония и диахрония, национальный русский язык, разговорно-обиходный язык, письменные памятники средневековья, лексикография, картотека
Короткий адрес: https://sciup.org/147241459
IDR: 147241459 | УДК: 801(091)-500.86/87 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.935
Текст научной статьи Реализация идеи Б. А. Ларина о разговорно-обиходном русском языке в прошлом и настоящем
Многие важные и сложные проблемы отечественной лингвистики XX века поднимались, рассматривались, решались и остались живыми, перспективно-актуальными благодаря выдающемуся ученому Борису Александровичу Ларину (1893–1964), 130-летие которого особенно дорого ларинцам (ученикам и участникам его школы).
Воспоминания о нем Д. С. Лихачев начинает так:
«Если нужно было бы назвать наиболее характерную особенность Б. А. Ларина как ученого-эрудита, то следовало бы назвать, что он был самым образованным лингвистом нашего времени. Так считали и лингвисты старшего поколения, и его ученики», подчеркивая, что эта черта была «образованностью филолога конца XIX – начала XX в., когда она приобрела известную внутреннюю цельность и стояла в России очень высоко» [8: 5].
Созданный Б. А. Лариным и официально открытый 1 сентября 1960 года в Ленинградском университете новаторский Межкафедральный словарный кабинет (МСК) как центр уже давно сложившейся ларинской научной школы объединил единомышленников разных научно-учебных подразделений университета, а также других вузов страны (Пскова, Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Владивостока), где уже работали ларинские ученики, привлекая новых коллег, заинтересованных в коллективной лексикографической работе. В 1961 году на конференции в Пскове, организованной Б. А. Лариным и С. М. Глускиной, его ученицей, при поддержке руководства нашего вуза оформилось замечательное содружество ленинградцев и псковичей в единый коллектив для создания по идее Б. А. Ларина «Псковского областного словаря с историческими данными» (ПОС). Это была работа над новаторским в мировой лексикографии словарем – диалектным полным современным с XIX века и одновременно дифференциальным историческим по псковским письменным памятникам XI–XVIII веков.
Всю жизнь Б. А. Ларин «не искал легких путей в науке и изучал язык в его наиболее сложных, а потому и в интересных формах» [8: 7]. Он был блестящим организатором науки, сплачивал коллективы единомышленников, в составе которых был не просто руководителем, а и «сочленом», по словам Д. С. Лихачева, и в общей подготовительной, и в творческой работе.
Покажем теоретическую и практическую ценность наблюдений, выводов ученого и их значимость для понимания указанной в статье проблемы. Так, важным и незабываемым событием в истории отечественной науки остается конференция 1961 года, организованная по инициативе Б. А. Ларина в ЛГУ, – «Начальный этап формирования русского национального языка» со значимым и ныне докладом ученого «Разговорный язык Московской Руси»1 [6]. Обращает внимание само начало выступления:
«Разговорный язык Московской Руси – тема необъятная не только для статьи, но и для большой книги. Она не завещана нам предками и ставится только в советском языкознании... Мое поколение ставит ее перед молодыми исследователями, зная, какой широкий круг общих и частных вопросов с нею связан, в надежде, что молодые увидят и завершение первого этапа разработки этой темы» [6: 163].
Теоретическая и практическая значимость поставленной проблемы подтверждалась результатами научных работ самого ученого, его учеников и последователей. Но до начала 1960-х годов понимание разговорного современного русского языка не было обосновано, поскольку сложно заниматься современным материалом как живым явлением, не в полной мере зная и не учитывая прошлое языка и различные пласты современной речи. Б. А. Ларина же всегда интересовали и диалекты, и язык городского населения, и социальные диалекты, и арго, жаргоны. Такие пласты народного языка ученик Б. А. Ларина В. М. Мо-киенко образно и точно назвал «свободной стихией разговорной речи» [12].
Б. А. Ларин считал необходимым знать специфику языка прошлого с учетом памятников письменности в диахронии, а также жанровой и территориальной их принадлежности с привлечением списков, если они у памятника были.
Смело, обоснованно, с заботой о выяснении истины Б. А. Ларин ставит проблему защи- ты того, что дают факты прошлого, поскольку это может объяснить объективную картину языка в настоящем.
К сожалению, в процессе работы выяснилось неутешительное в науке:
«<...> ситуация имеет и теоретическое обоснование: игнорируя социальные диалекты, кроме крестьянских, те, кому бы следовало ставить проблему разговорного языка во всю ширь, предпочитают рассуждать о тысяче и одном стиле литературного языка, как своего рода сублимации социальных диалектов, чтобы не поколебать догмата об единстве и общенародности национальных языков. Я считаю этот догмат схоластической абстракцией, тормозящей нашу работу и в области современных языков, и в историческом языкознании» [6: 165].
Справедливый вывод был строгим, но необходимым для движения науки вперед.
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Широта образования, знание древних, современных европейских языков, памятников письменности, в которых отражен русский язык прошлых веков, – все это обеспечило всесторонность научной разработки выдвинутой идеи. Так, в первой половине XX века Б. А. Ларин расшифровал и подготовил к публикации три иностранных источника по русскому языку XVI–XVII веков. По материалам этих памятников2 в 1949 году он успешно защитил докторскую диссертацию, открывшую новое направление в изучении русского языка. Отечественные ученые благодаря мужеству Б. А. Ларина (что было чрезвычайно опасно во время «борьбы с космополитизмом») получили право смело использовать в своей работе и ставшие уже доступными, и новые памятники письменности по мере их обнаружения. В одной из последних работ о Б. А. Ларине О. В. Никитин, назвав три иностранных источника о русском языке XVI–XVII веков (материалы докторской диссертации ученого), показал, что Борис Александрович – прекрасный исследователь и двуязычной лексикографии. Это автор статьи оригинально подтверждает и третьим источником («Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса 1618–1619 гг.»), опубликованным учениками после кончины учителя [13].
Ставя в 1961 году вопрос о разговорном языке, Б. А. Ларин также обратился к «Русской грамматике» Г. В. Лудольфа3, изданной в Оксфорде в 1696 году [9: 1937]. Важны рассуждения-выводы ученого конца XVII века относительно использования русскими своего языка в разных условиях:
«Для русских знание славянского языка необходимо, потому что не только Св. Библия и остальные кни- ги, по которым совершается богослужение, существуют только на славянском языке» [9: 47].
Владея кириллицей и зная русский язык, Г. В. Лудольф, наблюдая ситуации общения русских из разных социальных групп, отметил и психолого-эмоциональный настрой человека в процессе коммуникации:
«Но точно так же, как никто из русских не может писать или рассуждать по научным вопросам, не пользуясь славянским языком, так и наоборот – в домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка, потому что названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по каким научаются славянскому языку. Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянскому» [9: 113].
Отмечено Г. В. Лудольфом и неудачное, нецелесообразное введение в речь тех или иных слов:
«<…> чем более ученым кто-нибудь хочет казаться, тем больше примешивает он славянских выражений к своей речи или в своих писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским языком в обычной речи» [9: 113].
С такими наблюдениями и выводами невозможно не согласиться: подобное встречается и в живой речи русских в современном языке, тем более с учетом многих субъективных и объективных условий при конкретном разговоре. Диалектологам знакомы требования к оформлению записи речи информантов в полевых экспедициях.
Владение Г. В. Лудольфа кириллицей оказалось значимым для отражения произношения русских слов: этим он показал желающим научиться разговору по-русски, на что необходимо обращать внимание. Интересно тонкое наблюдение ученого:
«Большинство русских, чтобы не казаться неучами, пишут слова не так, как произносят, а так, как они должны писаться по правилам славянской грамматики, например пишут сегодня , а произносят соводни . Тем не менее я решил в этой моей грамматике и в диалогах передавать слова такими буквами, какие слышатся в произношении, чтобы книга послужила на пользу тем, кто хочет научиться разговорному русскому языку» [9: 48].
Поражает зафиксированное в XVII веке понимание языка русских как языка народа, в отличие от языков европейцев, желающих изучить его, с одной стороны. А с другой – чувство родного языка для использования, применения его в разных условиях, в которых может оказаться человек.
Б. А. Ларин высоко оценил подход Г. В. Лу-дольфа к языку. Сам он прекрасно знал памятники письменности разных веков, жанров и тер- риторий. Сравнивал, сопоставлял необходимые данные в зависимости от проблемы и поставленных целей и задач.
Осмысление структуры современного русского языка в середине XX века, по наблюдениям Б. А. Ларина, также было весьма неудовлетворительным: без обращения большинства лингвистов к развитию и состоянию языка и речи в прошлом.
Идея Б. А. Ларина о специфике современного разговорного языка и истории его формирования складывалась долго на огромном разностороннем и разновременном языковом материале коллективом его единомышленников.
Зная судьбу реализации замыслов Б. А. Ларина, по-особому воспринимаешь его комментарии к грамматике Лудольфа:
«Г. В. Лудольф говорит о вариации того разговорного языка, какой он наблюдал в высших и средних кругах московского общества. <…> Вне его поля зрения остались диалекты крестьян и отдаленных от Москвы городов» [6: 168].
Ученый XX века чувствовал потребность науки в решении соответствующих проблем национального русского языка, прежде всего с документально обоснованной историей его структуры.
Сейчас в мире известно не менее десяти русско-иностранных разговорников прошлых столетий, три из которых русско-немецкие, составленные в Пскове XVI–XVII веков4. Один из них наука узнала первым в прекрасном исследовании и издании – «Разговорник Т. Фенне» 1607 года появился в Копенгагене в 1970 году [14], пробудив удивительный интерес в мировой науке у специалистов разных профилей к памятникам этого жанра. Известный ученый Р. О. Якобсон, ценивший труды Б. А. Ларина, в 1971 году прислал по экземпляру коллективам МСК и Пскова, где создавался ларинский Псковский областной словарь. Б. А. Ларин не узнал об этом необыкновенно ценном источнике с материалами средневекового русского языка, которые украсили историческую часть словарных статей.
Тема статьи требует сказать и о трудной и трагической судьбе одной лексикографической идеи, удивительная реализация которой многое объяснит в том, что́ входит в понятие ларинской школы.
В 1934 году Б. А. Ларину предложили руководить созданием «Древнерусского словаря» (ДРС) в Словарном секторе Института языка и мышления Ленинградского отделения АН СССР. Б. А. Ларин создал коллектив, продумал и по- добрал список источников. Он учил соратников научным и технически значимым правилам выборки фрагментов текста и их научного оформления. Формировалась великолепная Картотека. Б. А. Ларин проводил семинары с обсуждением составленных авторами словарных статей, участвовал во всех видах работ на правах «сочлена». Высоко ценил Д. С. Лихачев-текстолог принцип Б. А. Ларина-лексикографа расписывать памятники на карточки, поскольку он совпадал с основами текстологии: «Сперва изучить историю текста памятника и только затем расписывать его для картотеки. Чтобы не засорять ее ненужными карточками» [8: 8]. При наличии списков «Ларин считал необходимым расписывать только древнейший текст, для чего надо установить редакции текста, их взаимоотношения» [8: 8].
Дружная работа позволила руководителю подготовить к изданию все документы в одном томе: «Проект» был издан в 1936 году [4]. Картотека включала миллион карточек, в 1941 году планировалось издание первого тома. С началом войны еще некоторое время велась работа. Продолжилась она и с возвращением участников в Ленинград из эвакуации. Два тома ДРС были подготовлены к изданию после войны. Но в 1949 году работа над ДРС была неожиданно прервана по волевому решению руководства, и всю Картотеку не слишком бережно вывезли в Москву, где до 1970-х годов она была абсолютно недоступна для исследователей вплоть до начала создания на основе материалов ДРС «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (СлРЯ XI–XVII). В этой ситуации не каждый бы выстоял. Но Б. А. Ларин выстоял, не предав ни своих идей, ни учеников, которые вели себя так же мужественно. Сказанное позволяет показать удивительную судьбу и жизненность ларинской идеи вопреки всем преградам на пути ее реализации.
Б. А. Ларин творчески намечал новые направления в лексикографии, он создавал коллективы в ЛГУ и других центрах, где были его ученики. Так, новый проект был предложен в 1961 году для реализации в МСК: «Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков» (СлОРЯ XVI–XVII). Учитель разработал концепцию этого «второго ДРС», желая продолжать работу над словарем русского Средневековья, обнаружив, что в ряде исторических словарей недостаточно отражена живая разговорно-обиходная речь народа среднерусского периода.
Ларинскими учениками в МСК была начата работа по созданию специальной Картотеки СлОРЯ при расписывании памятников: круг источников наметил Б. А. Ларин. С энтузиазмом старшие и младшие ларинцы начали трудиться по новой теме. Но нездоровье и кончина Б. А. Ларина в начале 1964 года оставили участников ларинской школы одних в начале и продолжении коллективной работы по многим направлениям. Однако никто не предал общего дела.
В 1960–1990-е годы коллектив создавал по ларинским принципам Картотеку, расписывая источники, рекомендованные ученым и вновь обнаруженные. Руководили работой С. С. Волков, потом О. С. Мжельская – старшие ученики, специалисты по истории языка.
Неожиданно при разборе архива Б. А. Ларина С. С. Волков обнаружил ларинские рукописные «Заметки о Словаре обиходного языка» (два фрагмента ориентировочно 1959 года и 8 марта 1961 года) и, подготовив их к печати, опубликовал в сборнике 1993 года, посвященном 100-летию Б. А. Ларина [2], а затем, как чрезвычайно востребованные, «Заметки» были переизданы в 2003 году [3]5. В небольшом документе тезисного типа каждое слово значимо, точно, незаменимо. Учитель верил, что ученики сумеют лексикографически представить «ту наддиалектную систему русской речи, какая постепенно складывалась с XV по XVII век и наименовалась в эту эпоху “просторечием”» [3: 656].
Позволим привести для понимания проблемы несколько важных положений ученого, к которым обращались и обращаются авторы нового словаря:
«Обиходный язык достаточно четко отличается от церковнославянского. Это язык устного общения и частных деловых документов, лишенных политического, государственного значения» [3: 656].
Этот тезис нацеливает на ориентирование в типах и жанрах памятников. Указанный фрагмент, как и следующий, из той части «Заметок», которая предположительно относится к 1959 году:
«Труднее отграничить обиходный язык от областных крестьянских диалектов. Мы имеем в виду ту наддиалектную систему разговорной речи, какая постепенно складывалась с XV по XVIII в. и именовалась в эту эпоху “просторечием”» [3: 656].
Образцы речи в разных ситуациях, зафиксированные в памятниках (по наблюдениям Б. А. Ларина), убеждают, что это «несколько обобщенный, именно общий разговорный язык, а не узко-ло- кальный тип и не узко-социальный (например, крестьянский или посадский)» [3: 657].
Судя по содержанию первого фрагмента обнаруженных «Заметок», согласимся с С. С. Волковым, что запись относится к периоду до начала 1960-х годов (с пометой публикатора «Предположительно 1959 г.»): это время обдумывания и подготовки ученого к конференции 1961 года по проблеме начального периода развития русского национального языка с выступлением и статьей самого Бориса Александровича о разговорном языке Московской Руси [6], в которых звучат термины «обиходный», «обиходно-разговорный». Второй фрагмент, 8 марта 1961 года, гораздо больший, информативен, по-деловому эмоционален. Он напоминает замечательные ларинские тезисы при подготовке к какому-нибудь выступлению. Обратим внимание на дату второго фрагмента – 8 марта 1964 года, а в конце марта Бориса Александровича не стало.
Обнаруженные записи еще более вдохновили и поддержали создателей нового словаря. Несколько десятилетий шла основательная подготовка к созданию словарных статей: расписывались тексты деловых документов, демократической литературы, фольклорных произведений, разговорники для Картотеки. В 2000 году под редакцией О. С. Мжельской вышел «Проект» словаря с образцами словарных статей, а 2 марта 2021 года состоялось широкое, заинтересованное обсуждение его с участием ученых из близких и далеких городов [10].
Каждый участник коллектива вел серьезные научные исследования лексики, фразеологии на современном материале или с привлечением памятников, публикуя статьи, монографии, как, например, О. С. Мжельская по источникам Средневековья [11].
В 2003 году вышел пробный выпуск словаря, а в 2004 году – выпуск 1 под редакцией О. С. Мжельской, которая руководила работой семинара и была редактором первых пяти выпусков. А далее уже опытные ученики – Е. В. Генералова и О. В. Васильева – приняли руководство СлОРЯ, и в их редакции вышли следующие выпуски. В 2020 году был опубликован девятый выпуск словаря «Ильм – Казнь» (СлОРЯ XVI–XVII: 9), несмотря на то что первоначально Б. А. Ларин намечал не более четырех-пяти.
Е. В. Генералова, посвятившая свою статью 130-летию Б. А. Ларина, точно и справедливо отметила, что Б. А. Ларин – фактически основоположник русской исторической лексикографии в нашей науке. Ведь Картотека ДРС до начала
70-х годов XX века в Москве была не у дел, а потом легла в основу «Словаря русского языка XI– XVII вв.». Главное то, что Б. А. Ларин установил периодизацию русской исторической лексики через изучение лексического состава с учетом времени, места, условий фиксации речи носителями языка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как и предполагал Учитель, «второй ДРС» позволяет наглядно понять, почувствовать специфику обиходно-разговорного языка как особой разновидности русского в соответствующих условиях быта, общения в прошлом. А это, как и научно-обоснованные и доступно-доказательные труды Б. А. Ларина, – путь к познанию современного разговорного русского языка.
Насколько четко и прозорливо понимал Б. А. Ларин сложность проблемы и какие видел пути к достижению цели, веря в возможности последователей, было высказано им в конце доклада-статьи 1961 года:
«Особо следует заняться и вопросом о путях проникновения просторечия в литературный язык и преобразования литературного языка под сложным скрещением влияний а) просторечия, б) иностранных языков через переводную литературу, в) специальных и профессиональных лексических систем – через обширную ремесленно-промысловую письменность XVII в., а также в связи с ростом городов и возрастающим влиянием ремесленников и рабочих.
Все это остается задачей дальнейших исследований» [6: 175].
По словам Д. С. Лихачева, «ни одна из тем его (Ларина. – Л. К. ) юношеских занятий и ничто из его разносторонних знаний не осталось за бортом его последующих исследований» [8: 6]. Подтверждается это разносторонностью реализованных научных интересов Б. А. Ларина, к числу которых относятся история языка, историческая лексикология и фразеология; диалектология славянских и балтийских языков; разговорная речь: история и современность; художественная речь; теория перевода; лексикография. «Ученый-эрудит» «оставил после себя нечто большее», чем только свои уникальные труды по разным областям филологической науки. Чувствуя требования науки в тот или иной момент, намечал, определял путь, «направление науки» [8: 9].
Судьба и роль одной из идей Бориса Александровича Ларина показывает, что многое в научной деятельности зависит не только от объективных условий, но и от самого человека. Важны преданность делу и научно-культурный кругозор.
СОКРАЩЕНИЯ
ДРС – Древнерусский словарь.
МСК – Межкафедральный словарный кабинет имени проф. Б. А. Ларина.
ПОС – Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–28. Л. / СПб.: ЛГУ / СПбГУ, 1967–2020.
СлОРЯ XVI–XVII – Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVI веков. Вып. 1–9. СПб.: Наука, 2004–2020.
СлРЯ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–31. М.: Наука, 1975–2019.
Список литературы Реализация идеи Б. А. Ларина о разговорно-обиходном русском языке в прошлом и настоящем
- Генералова Е. В. Словарное наследие профессора Б. А. Ларина и современная лексикография (к 130-летию со дня рождения) // Русский язык в школе. 2023. Т. 84, № 1. С. 75–84.
- Ларин Б. А. Заметки о «Словаре обиходного языка Московской Руси». Публикация и примечания С. С. Волкова // Вопросы теории и истории языка. СПб.: СПбГУ, 1993. С. 5–9.
- Ларин Б. А. Заметки о «Словаре обиходного языка Московской Руси» // Ларин Б. А. Филологическое наследие. СПб.: СПбГУ, 2003. С. 656–659.
- Ларин Б. А. Проект Древнерусского словаря (Принципы, инструкция, источники). М.; Л.: АН СССР, 1936. 176 с.
- Ларин Б. А. Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. Л.: ЛГУ, 1961. С. 22–34.
- Ларин Б. А. Разговорный язык Московской Руси // Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание (Избранные работы). М.: Просвещение, 1977. С. 163–175.
- Ларин Б. А. Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI–XVII веков. СПб.: СПбГУ, 2002. 686 с.
- Лихачёв Д. С. О Борисе Александровиче Ларине // Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание (Избранные работы). М.: Просвещение, 1977. С. 5–10.
- Лудольф Генрих Вильгельм. Русская грамматика. Оксфорд, 1696. (Переиздание, перевод, вступительная статья и примечания Б. А. Ларина). Л.: ЛНИ ИЯ, 1937. 166 с.
- Материалы обсуждения «Проекта Словаря обиходного русского языка Московской Руси (XVI–XVII вв.)». СПб., 2000 / Сост. Е. В. Генералова, Л. М. Карамышева; Ред. А. С. Герд. СПб.: СПбГУ, 2002. 40 с.
- Мжельская О. С. Лексика обиходно-разговорного языка Московской Руси XVI–XVII вв. (по данным иностранных руководств для изучения русского языка). СПб.: СПбГУ, 2003. 220 с.
- Мокиенко В. М. Борис Александрович Ларин: свободная стихия разговорной речи // Quaestio Rossica. 2019. T. 7, № 3. С. 903–916.
- Никитин О. В. Б. А. Ларин как исследователь двуязычной лексикографии эпохи Московской Руси XVI–XVII вв. // Русский язык в школе. 2023. Т. 84, № 1. С. 85–99.
- Tönnies Fenne’s Low German manual of spoken Russian. Pskov, 1607 / Ed. by L. L. Hammerich, R. Jakobson. Vol. II: Transliteration and translation. Copenhagen, 1970. 488 с.