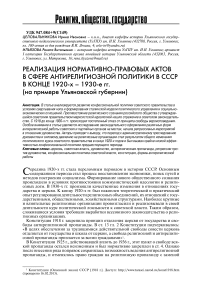Реализация нормативно-правовых актов в сфере антирелигиозной политики в СССР в конце 1920-х - 1930-е гг. (на примере Ульяновской губернии)
Автор: Целовальникова Ирина Ивановна, Ильязова Рената Витальевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Религия, общество, государство
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется развитие конфессиональной политики советского правительства в условиях свертывания нэпа и формирования сталинской модели политического управления и социально-экономических отношений. Противостояние религиозного сознания российского общества с утверждавшейся советским правительством марксистской идеологией нашло отражение в советском законодательстве. С 1918 до конца 1930-х гг. происходил постепенный отказ от принципа свободы вероисповедания. Особое внимание в статье уделяется исследованию законодательного оформления различных форм антирелигиозной работы советских и партийных органов на местах, начала репрессивных мероприятий в отношении духовенства. Авторы приходят к выводу, что переход к административному преследованию духовенства и силовому давлению на религиозные организации стал результатом общего изменения политического курса советского правительства в конце 1920-х годов и был вызван крайне низкой эффективностью конфессиональной политики предшествующего периода.
Церковь, советская власть, духовенство, антирелигиозная пропаганда, репрессии против духовенства, конфессиональная политика советской власти, конституция, формы антирелигиозной работы
Короткий адрес: https://sciup.org/170167635
IDR: 170167635
Текст научной статьи Реализация нормативно-правовых актов в сфере антирелигиозной политики в СССР в конце 1920-х - 1930-е гг. (на примере Ульяновской губернии)
С ередина 1920-х гг. стала переломным периодом в истории СССР. Основным содержанием периода стал процесс восстановления экономики, поиск путей и методов построения социализма. Формирование нового общественного сознания происходило в условиях противостояния коммунистической идеологии и религиозных догм. В 1930-х гг. произошли качественные изменения в отношениях государства и церкви. К концу 1920-х гг. был накоплен теоретический и практический опыт регулирования деятельности религиозных объединений, их отношений с государственными, общественными, хозяйственными структурами. Наиболее крупные и влиятельные религиозные организации провозгласили и реализовывали в своей деятельности курс политической лояльности к советской власти. Таким образом, сложившиеся условия требовали выработки всесоюзного законодательства о религиозных организациях.
Конституция 1918 г. закрепила принцип отделения церкви от государства и свободы антирелигиозной пропаганды. В ст. 13 гл. 2 Конституции подчеркивалось: «В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами»1.
В Конституции 1925 г., действовавшей вплоть до 1936 г., этот пункт о свободе всякой пропаганды остался неизменным и был нормативно закреплен в ст. 4. Однако после внесения ряда поправок сохранялась возможность ведения антирелигиозной пропаганды, и отменялось право граждан на религиозную пропаганду с заменой его «свободой вероисповеданий»1. Таким образом, статья формально допускала возможность молиться, читать религиозные книги, участвовать в богослужении, исполнять религиозные обряды, но ограничивала и даже совсем запрещала ведение разговоров на религиозные темы, поскольку в общении могут присутствовать элементы пропаганды или агитации. Содержание церковных проповедей, произносимых во время богослужения, контролировалось [Синельников 2011: 39]. Такое постепенное наступление на церковь явилось следствием стремления руководства партии в середине 1920-х гг. к прямому следованию постулатам марксизма, утверждению марксистской идеологии в массах. А в теории К. Маркса и Ф. Энгельса важное место уделялось именно мысли о том, что искоренение религиозного мировоззрения не должно ограничиваться лишь административными запретами и «наскоками», оно должно происходить поступательно и с вовлечением в эту борьбу народных масс.
В связи с этим на места «спускались» директивные указания усовершенствовать работу по изучению антирелигиозной литературы, проводить читку художественных произведений в клубах, красных уголках, а также организовать «Уголки безбожников» в библиотеках2.
В феврале 1929 г. в республиканские, краевые, областные, губернские и окружные партийные комитеты было разослано письмо за подписью секретаря ЦК ВКП(б) Л. Кагановича «О мерах по усилению антирелигиозной работы». Cоставители письма обращались к характеристике политических позиций религиозных организаций и отнесли духовенство, активных рядовых верующих, органы церковного управления и религиозные организации к противникам социализма. Им были предъявлены обвинения в «мобилизации реакционных и малосознательных элементов» в целях «контрнаступления на мероприятия советской власти и компартии».
В письме перед партийными, государственными, хозяйственными и общественными организациями ставились следующие задачи: решительно бороться с тенденцией религиозных издательств как к массовому распространению, так и к выходу в своей пропаганде за пределы строго религиозных вопросов; никоим образом не допускать нарушения религиозными объединениями советского законодательства; изъять из ведения духовенства школы, суды, регистрацию гражданских актов; использовать органы ЗАГС в целях борьбы с «поповщиной», церковными обрядами и пережитками старого быта; овладеть вегетарианскими столовыми и другими кооперативными объединениями, созданными религиозными организациями; создать новые кустарные промыслы в районах изготовления предметов религиозного культа; изучить практику хозяйственного обслуживания религиозных праздников, а тем организациям, которые используют труд сектантов, трудармейцев, отчислять средства на ведение политпросветработы, обратив внимание Союза безбожников и Политпросвета на необходимость постановки среди них антирелигиозной работы [Одинцов 1991: 36].
Данное письмо развязало руки местным партийным работникам, санкционируя «силовое» давление на религиозные организации. Высказывания о контрреволюционном характере религии и ассоциирование религиозных организаций с контрреволюционными сохранялись, несмотря на заявления руководителей религиозных организаций о лояльности к советской власти.
Действительно, если обратиться к личным делам осужденных духовников, то можно увидеть, что все чаще и чаще фигурируют следующие обвинения: утаивание излишков хлеба, антисоветская деятельность, распространение религиозноконтрреволюционной пропаганды и т.д.
8 апреля 1929 г. Президиум ВЦИК принимает постановление «О религиозных объединениях», законодательно закрепившее мнение о том, что религиозные общества не вправе заниматься какой-либо деятельностью, кроме как удовлетворением религиозных потребностей верующих, и преимущественно в рамках молитвенного здания. Таким образом, религиозные общества превращались в «резервации» для исповедующих те или иные религиозные убеждения. Одновременно деятельность их обставлялась множеством ограничительных и жестко регламентирующих условий: запрещалось создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объединения и вообще пользоваться находящимся в их распоряжении имуществом для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребностей; оказывать материальную поддержку своим членам; организовывать как специальные (детские, юношеские, женские, молитвенные и др.), так и общие (библейские, литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии) собрания; устраивать экскурсии и детские площадки; открывать библиотеки и читальни; организовать санатории и лечебную помощь [Русская православная… 1995: 292] .
При строгом соблюдении этих законов церковь явно не смогла бы выжить, по крайней мере экономически. Так, например, в том же законодательстве было указано, что, поскольку церковь не является юридическим лицом, договоры о ремонте церковного помещения могут заключаться только отдельными членами церковных органов, а не всем приходом, поэтому они рассматривались как частные коммерческие сделки. Как таковые они облагались чрезмерным налогом, как и все частные предприятия в то время. Для того чтобы выжить, церковным органам приходилось обходить эти законы и жить в постоянном страхе, что их уличат в незаконных действиях. Таким образом, подчинение церкви государству было достигнуто путем административных мер [Поспеловский 1995: 291].
Закрытию и уничтожению храмов способствовала также государственная перерегистрация, объявленная постановлением ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г., а также высокие ставки страховых сборов на здания храмов, невнесение которых исполнительными церковными органами могло привести и часто приводило к расторжению договоров на пользование церковными зданиями. Пользуясь тем, что приходы не могли внести означенные суммы налогов, сельские советы сразу же ставили вопрос перед вышестоящими инстанциями о закрытии храмов и снятии с регистрации служащего в этих церквях духовенства. Если же церковные советы или священники обращались за помощью в сборе денег к верующим, то таковые действия «церковников» сразу же квалифицировались как незаконные поборы с населения, что служило мотивом к возбуждению уголовного преследования «провинившихся».
С конца 1929 по осень 1930 г. были сняты колокола почти со всех ульяновских церквей [Скала 2007: 194]. Массовое снятие колоколов с церквей имело место и по всей епархии. В закрытых храмах размещали производственные цеха, склады, квартиры, клубы, архивы [Цыпин 2010: 161], а монастыри отводились под тюрьмы и колонии. Например, в женском Спасском монастыре после того, как монахини были выселены из своих келий, был организован концентрационный лагерь [Чуканов 1997: 5].
В Конституции 1936 г., утвержденной Чрезвычайным VIII съездом Советов СССР 5 декабря 1936 г., в ст. 124 гл. X «Основные права и обязанности граждан» уже говорилось о свободе отправления культов и свободе антирелигиозной пропаганды, признаваемой за всеми гражданами1. Таким образом, в формулировках конституционной нормы прослеживается изменение – от «свободы религиозной пропаганды» в 1918 г. к «свободе религиозных исповеданий» в 1929 г. и, наконец, к «свободе отправления религиозных культов».
Из изложенного выше может быть сделан вывод о возрастающем притеснении религиозных организаций на законодательном уровне. Характер взаимоотношений церкви и государства оставался неизменным и в период относительного ослабления государственного вмешательства в экономику и общественные отношения в период нэпа, и в период ужесточения тоталитарного режима в 1930-е гг. И церковь, и советское государство боролись за влияние на умы советских людей; без вытеснения религиозного сознания невозможно было утверждение советской идеологии в обществе.
Переход к более решительным репрессивным мерам в 1930-х гг. доказывает тот факт, что идеология марксизма оказалась неконкурентоспособной на поле боя за сознание населения. Тогда было решено бороться против самих распространителей религиозного мировоззрения, а не логичными доводами объяснять населению «абсурдность и несостоятельность» религиозных догм. Местные органы власти же старались выполнять, а порой и перевыполнять указания, идущие от вышестоящих органов. Поэтому наиболее используемыми были административные меры: налоговые сборы, репрессии, закрытие церквей и храмов, изъятие церковного имущества.
Тем не менее устойчивость религиозного мировоззрения оставалась очень высокой среди населения Ульяновской губернии (округа), что можно объяснить недостаточностью именно разъяснительной, агитационной работы среди различных социальных групп и чрезмерно грубым насаждением новых идей.
Список литературы Реализация нормативно-правовых актов в сфере антирелигиозной политики в СССР в конце 1920-х - 1930-е гг. (на примере Ульяновской губернии)
- Одинцов М.И. 1991. Государство и церковь: история взаимоотношений. 1917-1938 гг. М.: Знание. 64 с.
- Поспеловский Д.В. 1995. Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика. 511 с.
- Русская православная церковь в советское время (1917-1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью (сост. Г. Штриккер). 1995. М.: Пропилей. 400 с.
- Синельников С.П. 2011. Советское законодательство о религиозной пропаганде (1918-1930-е гг.).//История государства и права. № 22. С. 38-42.
- Скала А. 2007. Церковь в узах: история Симбирской-Ульяновской епархии в советский период (1917-1991 гг.). Ульяновск: Дом печати. 968 с.
- Цыпин В. 2010. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды (1700-2005). М.: Изд-во Сретенского монастыря. 839 с.
- Чуканов И.А. 1997. Симбирские концентрационные лагеря.//Симбирский курьер. № 79.